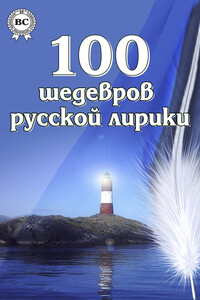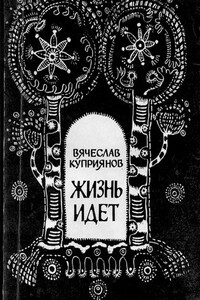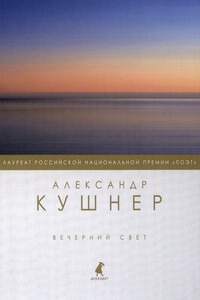Шкатулка с тройным дном | страница 45
Эти два Поэта и есть, на мой взгляд, главные герои Посвящения. Князев здесь (как и во всем Триптихе), по-моему, герой второстепенной важности, отраженный только в зеркале верхнего фабульного слоя, живущий на первом, верхнем, дне «шкатулки».
Всего лишь в одиннадцати строках Посвящения совершено чудо: соединено, строено несоединяемое, и так искусно, что, по относящемуся ко всей Поэме определению Ахматовой, даже «швов» не видно. Остается только повторить — вслед за Ахматовой: «Можно (и должно) по-разному толковать произведение искусства (тем более это относится к шедеврам)». Можно по-разному толковать отдельные места Поэмы, строки, слова. Можно впотьмах, на ощупь найти ключ к «шкатулке». Но проникнуть в «тайну ремесла» — никогда. Хотя и Ахматова как бы пыталась в одноименном цикле эту тайну раскрыть:
Симптоматично и то, что Цветаева одну из своих книг нарекает «Ремеслом», и как бы в ответ Ахматова говорит, что у ремесла есть — тайна, т. е. многопластовость, которой почему-то не замечает у «Собеседницы и Наследницы».
Два под одним плащом — ходят дыханья
Ни тонкий звон венецианских бус,
(Какая-нибудь память Казановы
Монахине преступной) — ни клинок
Дамасской стали, ни крещенский гул
Колоколов по сонной Московии —
Не расколдуют нынче Вашей мглы.
Доверьте мне сегодняшнюю ночь.
Я потайной фонарь держу под шалью.
Двенадцатого — ровно — половина.
И вы совсем не знаете — кто я.
Цветаева
Не диктуй мне, сама я слышу.
Ахматова
В зеркале-музыке Второго посвящения я вновь вижу не одну адресатку — О. Судейкину, но и Цветаеву.
По свидетельству Лидии Корнеевны, Второе посвящение появилось в 1945-м, после известия из Парижа о кончине Судейкиной. Из изысканий Р. Д. Тименчика следует, что Второе посвящение написано еще до смерти Глебовой-Судейкиной. Неужели вновь — такое острое предчувствие? Думаю, что вряд ли Ахматова стала бы о еще живой Судейкиной писать как о миновавшей Лету. Но так или иначе я снова убеждаюсь, что «ты один из моих двойников» относится к поэту, к Цветаевой, а к актрисе (как и в Первом посвящении — к Князеву) — лишь по верхнему фабульному слою. Тут даже не скажешь «по сюжету», который всегда глубже и многозначней фабулы. Во II томе «Сочинений» Ахматовой (не в 1-м, где я нашла потрясшее меня стихотворение «Самой поэме») есть набросок к Прозе о Поэме: «Кроме попытки увода Поэмы». Читаю: «Биография героини (полу-Ольга — полу-Т. Вечеслова) записана в одной из моих записных книжек — там балетная школа (Т. В.), полонез с Нижинским, Дягилев, Париж, Москва — балаганы, художник в Царскосельском дворце и т. д. Всего этого Поэма не захотела…» Значит, сдвоены биографии Судейкиной и Т. Вечесловой! Поначалу удивил меня Р. Ти-менчик, написав в своем примечании: «Очень важное указание на собирательность образа героини». Из этого же примечания узнаю, что Т. Вечеслова родилась в 1910 году, была балериной по профессии и с Ахматовой познакомилась только в 1944 году. А может быть Р. Тименчик не имел в виду именно Т. Вечеслову? Может быть это только его давняя верная мысль о сдвоенности прототипов? Скорее всего так, а то ведь действительно — слишком странно. Ведь облик Судейкиной и некоторые черты ее биографии были обозначены Ахматовой в Триптихе до знакомства с Вечесловой. Да и сама Ахматова подтверждает, что «всего этого Поэма не захотела». Однако ей почему-то нужно было это «полу-Ольга — полу-Т. Вечеслова». А не искать ли и здесь игру с читателем? Дескать, пусть поищут! И не есть ли это очень зыбкий след увода от Цветаевой (а вдруг разглядят?) к Т. Вечесловой? Ведь как твердо увела того же Р. Тименчика от цветаевского «Кавалера» к «Форели…» Кузмина! Не видим мы Т. Вечеслову и среди гостей в «Либретто». Зато Цветаеву видим рядом с Мандельштамом.