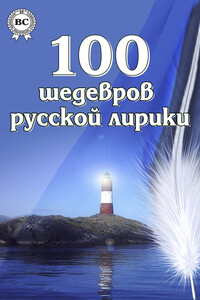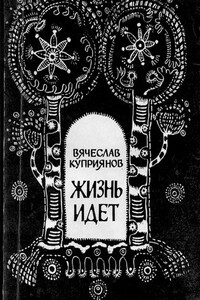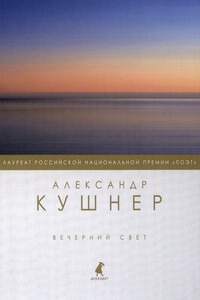Шкатулка с тройным дном | страница 44
Мне хочется обратить внимание читателя на запись Чуковской 22 мая 1962 года. Перечитывая статью Цветаевой о Маяковском и Пастернаке, Л. Ч. говорит, что «…лучше еще никто не написал о Пастернаке, чем Цветаева в «Световом ливне», — и замечает: «Но вот что хотелось бы мне сказать Анне Андреевне: она наверное и сама не заметила, какие у нее в стихах совпадения с цветаевскими мыслями из этой статьи! Цветаева говорит о поэзии, о поэте, как о реке, и у Ахматовой то же и почти теми же словами сказано в одной из «Элегий»:
Я еще буду и в дальнейшем останавливаться то на остроисследовательском взгляде Л. Ч., то на интуитивном угадывании, относящемся к моей теме.
А сейчас вернусь к Первому посвящению, повторив: «Там их трое». К Мандельштаму и Князеву тайнописно присоединяется и Цветаева, и не по одному обращению к ней автора «я на твоем пишу черновике», но и по некоторым общим портретным чертам Цветаевой и Князева. У Князева глаза — зеленый дым, но и у Цветаевой глаза — зеленые.
Не знаю биографии Князева, но, судя по кузминской «Форели…», он какое-то отношение к морю имеет. Вопрос: «Не море ли?» в первую очередь, по моему разумению, обращен к Мандельштаму и Цветаевой. В тех же «Листках из дневника» Ахматова пишет о том, как не мог без моря Мандельштам, что оно для него значило. Но знаем мы об этом главным образом из поэзии самого Мандельштама, как бы плывущей «дельфином молодым по седым пучинам мировым». А что касается Цветаевой, то свое имя она прочно связала в морем:
Строка «я бренная пена морская» как бы откликается на мандельштамовское «Останься пеной, Афродита». Обе эти строки разных поэтов-«двойников» слышатся мне и в ахматовском «накипанье пен»:
— Не море ли? — как бы спрашивает себя Ахматова, родившаяся у «Самого синего моря», и отвечает трагической антитезой: — Нет, «только хвоя // Могильная…».
Тут уже все мои сомнения, пожалуй, рассеиваются: не по Князеву так безутешно скорбит Ахматова, — по Мандельштаму! «Хвоя» у меня ассоциируется с тем лагерем, с тем местом, где закончил свой тернистый путь великомученник Мандельштам, и со строфой Поэмы, по понятным для того времени соображениям не вошедшей в окончательный текст: