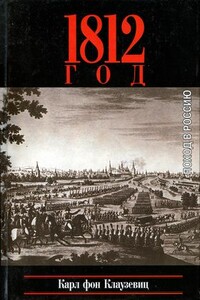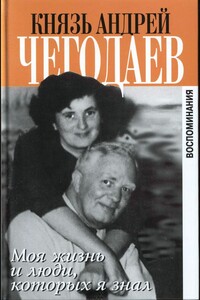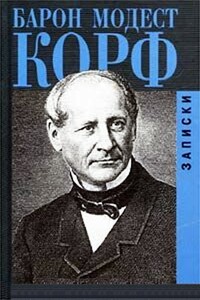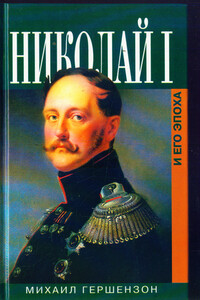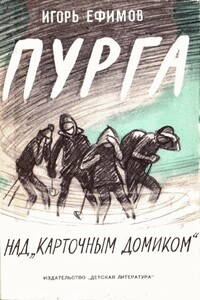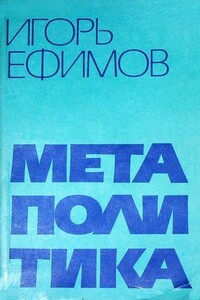Нобелевский тунеядец | страница 97
Во многих зарисовках блестит талант юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию. И как, вопреки ее наставлениям, он явился на разговор с начальником "обросшим трехдневной щетиной, в неведомых утюгу парусиновых брюках". А на вопрос "Какая область геологической деятельности вас больше всего интересует?" честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует "метафизическая сущность поэзии", ее связь с "начальным Словом" и прочие материи, далекие от геологии. Ошеломленный начальник попросил Людмилу Штерн "проводить ее товарища до лифта" (глава "Первое появление героя").
Часто Бродский показан таким, каким он представал в глазах других людей, и это помогает нам увидеть поэта в новом ракурсе. Например, однажды Бродский читал стихи в квартире Штернов, когда там гостил приехавший из деревни родственник домработницы, дядя Гриша. Распевное чтение Бродского, в котором как-то отразились традиции церковных песнопений, произвело на дядю Гришу такое впечатление, что он начал креститься. А потом вынес такое суждение: "Нет, не простой он человек... Бог Иосифа вашего отметил и мыслями одарил".
История мировой литературы честно предостерегает нас о том, как часто великие поэты бывают порывисты, импульсивны, безжалостно остроязычны, убийственно несправедливы. Вспомнить только эпиграммы Лермонтова, грубости Маяковского, скандалы Есенина, резкости Цветаевой. Бродский — не исключение. И Людмила Штерн не боится рассказать об обидах, которые он наносил ей и многим другим. Но из ее книги мы узнаем и о том, как часто он сожалел о вылетевших словах, раскаивался, пытался загладить. А уж если человек оказывался в беде, отзывчивость Бродского, его готовность помочь стремительно превращались в поступок. Его строчка "Только с горем я чувствую солидарность..." не оставалась просто красивыми словами.
Поэты не только сами импульсивны, но и окружают себя людьми похожего склада. (С другими им просто скучно.) Поэтому нам не следует ждать большой объективности от мемуаристов — ведь все они могут появиться только из ближайшего окружения поэтов. Бурные вспышки эмоций густо рассыпаны в воспоминаниях Нины Берберовой, Валентина Катаева, Надежды Мандельштам...
Людмила Штерн тоже полна живых чувств и пристрастий. Если она любит друга юности Геннадия Шмакова (ныне покойного эссеиста и переводчика, тесно связанного с Бродским), она посвящает ему целую главу, нечто среднее между некрологом и панегириком. Если она разлюбила и горько разочаровалась в другом друге их общей юности — Анатолии Наймане, — она и ему посвящает отдельную главу, похожую на обвинительное заключение, подготовленное страстным прокурором. И это уже дело и долг историка литературы напомнить читателю, что, как бы судьба ни развела впоследствии двух поэтов, именно Найман первым написал о мировом значении поэзии Бродского (см. "Заметки для памяти" — его вступление к сборнику Бродского "Остановка в пустыне", Нью-Йорк, изд. Чехова, 1970). Причем сделал это в те годы, когда за подобный текст можно было легко получить срок и отправиться в лагерь вслед за Синявским и Даниэлем.