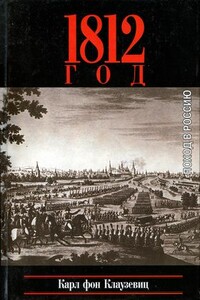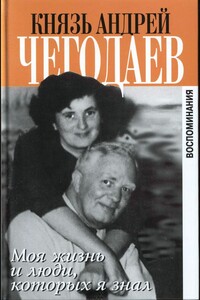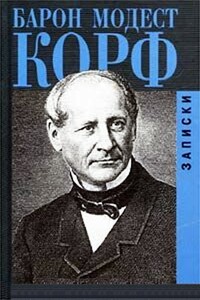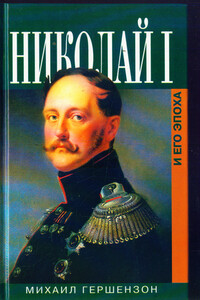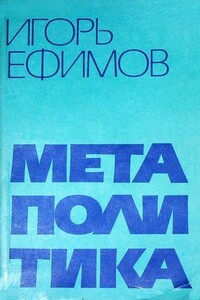Нобелевский тунеядец | страница 108
Но он способен и перейти от объяснений к прямым обвинениям:
Вообще говоря, поэт — единственный человек, который никогда не может "изменить родине". Ибо его родина — родной язык, с которым он связан на всю жизнь. Но и эта сфера может перестать быть только полем поэтического поиска и словотворчества и превратиться в борьбу за элементарные основы языка. Коммунистическая пропаганда узурпировала почти все высокие слова, какие только есть в русском языке: долг, совесть, честь, верность, справедливость, смелость. И люди, чуткие к чистоте речи, старались не употреблять этих слов вообще, чтобы не участвовать в лжи и лицемерии режима. Но Бродский демонстрирует такое бесстрашие и смелость в обращении с языком, что мы верим ему, даже когда он в стихотворении "На смерть Жукова" (1974, т. 2, стр. 347) возвращает нам самое, казалось бы, затасканное слово — "родина". ("Родину спасшему, вслух говоря...")
Знаменитое стихотворение "Остановка в пустыне" начинается строчками "Теперь так мало греков в Ленинграде, / что мы сломали Греческую церковь" (т. 2, стр. 11). Некоторые поклонники Бродского были разочарованы этим стихотворением. "Что значит "мы сломали"? Не нужно было бы даже менять размер строки, чтобы сказать — "вы сломали". Но в этом и состоит ключевая разница между подходом среднего интеллигента и чувством поэта. Бродский брал на себя смелость "быть причастным".
"Остановка в пустыне" кончается образом поэта, устремляющего свой взор во тьму грядущего:
Это стихотворение было написано в 1966 году. Двадцать пять лет спустя в России наступила "другая эра". Стихи, статьи, эссе Бродского печатаются огромными тиражами, его имя стало в ряд с крупнейшими поэтическими именами русской литературы XX века. Но находят ли его слова сегодня такой же отклик, какой они находили в сердцах людей нашего поколения?