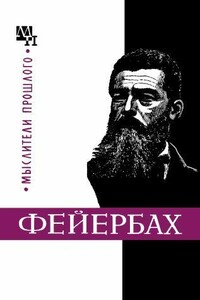Враги и фальсификаторы марксизма | страница 56
Левальтер например с серьезным видом уверяет, будто философской почвой, на которой произрос марксизм, является «без сомнения кантовское учение об идеях»[103], будто философским духом, пропитывающим учение Маркса, является «романтическое понимание «организма», которое обосновано в кантовой «Критике силы суждения», гетевском учении о метаморфозе и в ранней натурфилософии Шеллинга и пронизывает всю гегелевскую систему»[104]. Де-Ман обнаруживает «этически-гуманистические мотивы, лежащие позади всех его (Маркса. — Б. Б.) социалистических убеждений и оценочных суждений всего его научного творчества»[105]. То, что уже в 1844 г. Маркс преодолел «гуманизм», а в 1845–1846 гг. дал его развернутую уничтожающую критику, де-Мана не касается. До того, что уже в «Немецкой идеологии» Маркс по заслугам расправился с «этическими мотивами», — до этого де-Ману нет дела. Маркс писал: «Коммунизм просто непостижим для нашего святого (Штирнера. — Б. Б.), потому что коммунисты не выдвигают ни эгоизм против самоотверженности, ни самоотверженность против эгоизма и не воспринимают теоретически эту противоположность ни в ее эмоциональной, ни в ее напыщенной идеологической форме, а обнаруживают ее материальные корпи, вместе с которыми она исчезает сама собой. Коммунисты вообще не проповедуют никакой морали, чем Штирнер занимается сверх всякой меры. Они не предъявляют людям морального требования: любите друг друга, не будьте эгоистами и т. д.; они, наоборот, отлично знают, что как эгоизм, так и самоотверженность являются при определенных обстоятельствах необходимой формой самоутверждения индивидов»[106]. Судите после этого, что у Маркса «лежит позади» чего: этические мотивы — позади материальных классовых корней или материальные классовые корни — позади этических оболочек. Судите после этого, как глубок должен быть измышляемый де-Маном «трагический конфликт» Маркса, который, с одной стороны, якобы настолько верил в святость морали, что утаивал свою святую веру от масс, а с другой, — издевался над этическими побрякушками и моральными кликушами. Между де-Маном и Штирнером та разница, что для Штирнера научный коммунизм был «просто непостижим», а де-Ман хочет сделать его непостижимым для пролетариата. Впрочем этические склонности де-Мана вполне уместны: тому общественному строю, идеологом которого он является, пришла пора подумать о смертном суде.