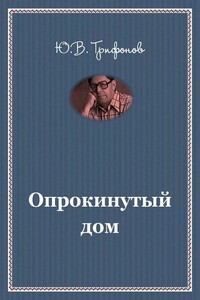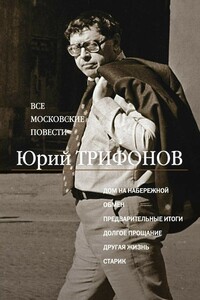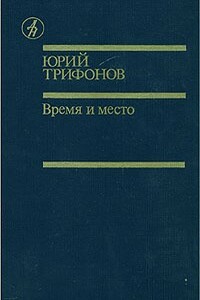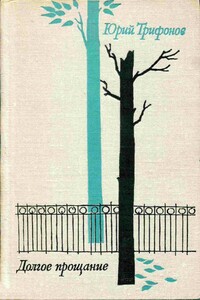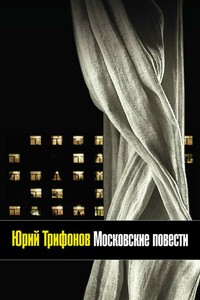Как слово наше отзовется… | страница 6
Нет, на этом уровне мы не поймем суть противоречия. Надо искать на ином уровне. Дух и идеи соотнесены у Трифонова не с теми или иными вариантами социальной типологии, а с более фундаментальными факторами. С природой — как таковой. С естеством — в принципе. То есть с «натурой», здоровая сила которой сама по себе ни плоха, ни хороша; она, эта сила, становится тупой и наглой, агрессивной и корыстной только тогда, когда сталкивается с бескорыстием духа.
Это и есть глубинный, трагический по своей сути конфликт, который порождает прозу Трифонова и выявляется в его публицистике. Конфликт совершенно закономерный для нашего времени и даже вполне «ожидаемый» в свете его научно-технических и экологических проблем и, однако, принимающий у Трифонова совершенно уникальную окраску.
Чем и объясняется уникальность пути Юрия Трифонова в современной нашей прозе. И его странное в ней одиночество.
Это одиночество — тема постоянных раздумий Трифонова-публициста. Он последовательно отталкивается от всех сколько-нибудь влиятельных направлений нашей прозы пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов. Отталкивается от многословной, мнимоэпической, эпигонской, «под Шолохова», романистики времен своей литературной молодости. Отталкивается и от «новаторской», «современной», «телеграфной», «интеллектуальной», «исповедальной» и т. д. прозы молодых прозаиков шестидесятых годов. Отталкивается от «деревенщиков» в конце того же десятилетия, хотя признает за ними глубину и истинность. Отталкивается, наконец, от социально-аналитической линии, связанной в то время с журналом «Новый мир», — хотя именно из этого журнала шагнули, как известно, в мир «Студенты» Трифонова, а потом — городские повести. Дисконтакт с А. Твардовским поэтапно зафиксирован у Трифонова в «Записках соседа», непонятная «несовместимость» и медленное прозрение: да, расхождение неслучайно, разные прицелы, разные сверхзадачи…
Сверхзадача у Трифонова была другая, чем у Дороша, Можаева, Тендрякова. Другая проблематика мучила его, вернее, другой «поворот» проблем. Сам этот «поворот» был уникален.
Отталкиваясь от современной ему прозы, Трифонов все время пытался напрямую опереться на классиков. Что видно по его статьям и высказываниям. Видно, как от Бунина и Чехова он медленно отходит к Толстому и Достоевскому. От ощущения красоты, культуры, интеллигентности погружается в какую-то непромеренную, бездонную глубину то ли истории, то ли нравственной философии…