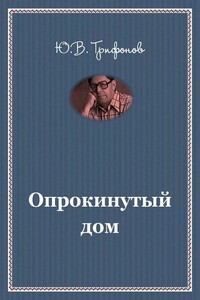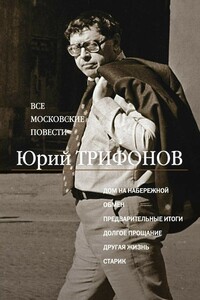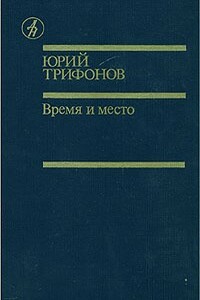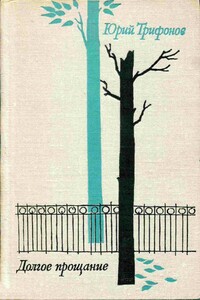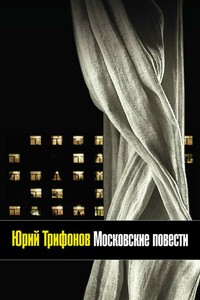Как слово наше отзовется… | страница 2
Положим, на задачи критики Трифонов в принципе смотрел, я думаю, архаически, он ведь и впрямь считал, что критика должна оценивать тексты и давать уроки автору и читателю, обслуживать, так сказать, литературу. Но тем более странно, что таким обслуживанием занимался он сам. В чем и каялся.
А его терпеливые ответы на стандартные вопросы журналистов, для «специального номера», для «тематического выпуска», «к дате», «к юбилею», а иногда и без всякого повода, когда нет ни оснований, ни желания отвечать, и по ответам все это видно, — так почему?
Только ли безукоризненная тактичность Трифонова влекла его в эту карусель, интеллигентское неумение отказать, вежливость добродушного великана?
А может, здесь более глубокая причина? Может быть, эти вещи как раз и связаны внутренне: словоохотливость Трифонова-публициста и то тайное, каторжное, невидимое миру многописание, которое сразу, изначально крылось в основании его работы как прозаика, а уж потом было им объявлено в качестве одного из правил ремесла?
Может быть, этот странный контраст вовсе и не странен? И находится в связи с мучительной внутренней ситуацией, когда Трифонов вынужден был, как сам он сказал, кидаться в разные стороны и пробовать. Может быть, те противоречия, которые кричат со страниц его публицистики и которые легко счесть простой непоследовательностью (сочли же критики простой непоследовательностью контраст между «Студентами» и «Домом на набережной» — что уж говорить о статьях Трифонова: то «мещанство» фикция, то оно реальность, то «быт» нужен, то он не нужен) — а что, если это никакая не непоследовательность, но коренной, «кровопролитный» для автора способ переживать проблему, пробуя одновременно ее взаимоисключающие решения?
Если мы почувствуем и примем этот, по-моему, единственно возможный для Трифонова тип духовного переживания — не цепочка «противоречий» откроется нам в странной пестроте его публицистического наследия, откроется путь.
Разумеется, пытаясь реконструировать таким образом путь столь сложной души, я решаюсь на гипотезу. Более того, я решаюсь трактовать некоторые проблемы, задетые Ю. Трифоновым, не совсем так (или совсем не так), как он их трактовал в своих самооценках. Однако, я думаю, настоящий писатель всегда интересней и глубже таких конкретных самооценок. На эту тему мне приходилось спорить и с самим Ю. Трифоновым (один такой спор представлен в этой книге). Приходилось мне наблюдать и мучительные его переоценки самого себя. Это была судьба, полная глубокого, подчас скрытого драматизма.