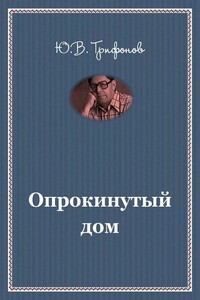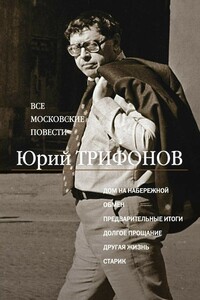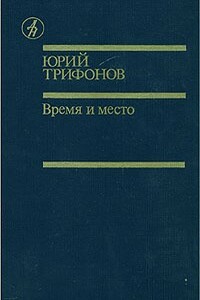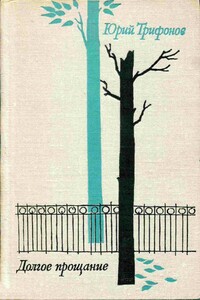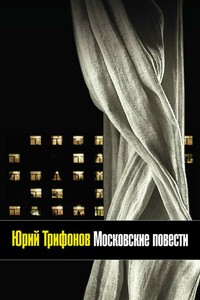Как слово наше отзовется… | страница 11
Через шесть веков тризна, а ранит посвежу. История живет, в ней начала всего, начала силы нашей, начала тревог. Ордынское иго, говорит Трифонов, не было похоже на огненный ошейник, оно состояло из каждодневного, «терпимого», привычного жизненного «сора»: алтын, ярлык, ясак, аркан… Как сломать ярмо, если оно «мягкое»? Как накопить силы? Ведь чтобы выйти на Куликово поле, надо было отрешиться от каждодневной безопасности, от привычной лямки, — нужно было безумство свободы…
Безумство свободы — или терпение? Безумный бунт — или «естественно сложившийся», «исторически реальный», «биологически целесообразный» строй жизни, ставшей бытом? Вот трифоновские вопросы к истории.
Вопросы романтика.
Ответы реалиста. Первое, что говорит Трифонов о своих героях: их нетерпение есть безумие с точки зрения здравого смысла. В этом безумии есть свой риск, своя объективная опасность.
Развертывая генеалогию души современного интеллигента, Трифонов смело выходит на самый болезненный, самый страшный вопрос: он выходит на зловещую фигуру Нечаева.
Это тоже кажется безумием.
Ну, допустим, за Нечаева еще может отвечать Желябов, каким-то краем общей беды с ним связанный (хотя и это спорно). Но почему за Нечаева должны отвечать «Анатолий Иванович и Инна Петровна из блочного дома в Нагатине»? Да если бы Трифонов просто промолчал о Нечаеве — ведь никому бы, пожалуй, и в голову не пришло связать это или спросить с Трифонова такую связь.
Он сам связывает. Он идет на горячее место, он становится прямо-таки в толпу заложников, взятую на мушку современными «левыми» террористами. Слишком дорогие понятия приходится делить с такими «сонаследниками». И раздел нужен решительный. Надо рассечь этот узел, этот корень. И Трифонов, всеми генетическими линиями привязанный к русской революционной демократии, — рассекает «общий корень» решительным и праведным ударом. Он знает, где, как и почему отделить нагатинскую учительницу — от итальянского «краснобригадника».
Сравнение это кажется абсурдным, но оно продиктовано абсурдной реальностью: левые экстремисты ссылаются-таки на «отцов терроризма», и Трифонов недаром чувствует себя задетым этими ссылками. Ссылаться в принципе можно на что угодно; правый терроризм не ссылается на Нечаева, но ничто не мешает ему идти по трупам; есть, как известно, и государственный терроризм со своими «словами» и со своими пулями. И все же к терроризму левому у Трифонова был особый счет — эти ссылались на идеи, за которые Трифонов чувствовал себя ответственным.