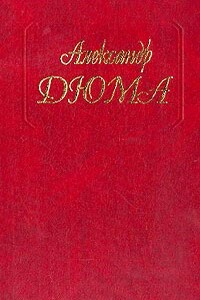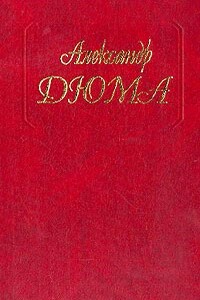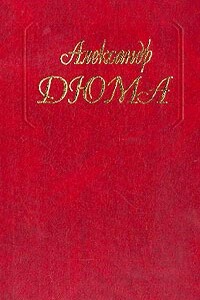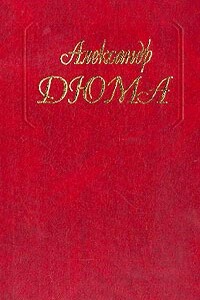Мало избранных | страница 124
По первому снегу Семён ездил с Епифанией на дальний покос, где с лета в балагане осталось сено. Гуня тянула волокушу, а Епифания шагала рядом – и как-то незаметно отошла в лес. Спохватившись, Семён вернулся за ней. Епифания была как заколдованная: брела, поглаживая стволы деревьев, нагибала к лицу гроздья рябины и срывала ягоды губами, задирала голову, глядя в блёкло-голубое небо за ветвями, и платок свалился с её плеч.
– Что с тобой, Епифанюшка? – тревожно спросил Семён.
– Всё здесь живое, Сеня, – ответила она; глаза у неё были словно подо льдом. – В деревьях тепло, и соки сокровенные, и снег пуховый, добрый, и божье дыханье в высоте… Смотри – стёжка, заяц проскакал. А тишина какая, Сеня… Луч на снежинке сверкнёт – и то слышно.
– Владыка Филофей говорил на проповеди, что мир и дан как Благая Весть, – осторожно сказал Семён.
– Верно говорил, – прошептала Епифания. – Только кому Весть?
– Всем.
Епифания лишь тускло улыбнулась, словно знала что-то своё.
Детское её изумление Семён истолковал как горькую радость от возвращения к жизни. Но потом заметил, что Епифания засматривается. То вдруг затихнет у проруби на Тырковке, а в проруби чистая вода дрожит в беззвучном токе над тонким промытым песком и камешками. То вдруг не может отойти от коровы, заботливо обирая с её шкуры мелкие мусоринки. То уставится на огонёк, ползущий по острой лучине. А то с полным беременем дров замрёт у поленницы, глядя на закат за Троицким мысом – студёный, по-петушиному яркий, разметавший краски во все стороны: алый цвет – на облака, золото – на снежные склоны, дерзкую зелень – в глубину синевы. В такие мгновения, немного выждав, Семён робко трогал Епифанию за руку, и она будто пробуждалась от наваждения: бездна, которую она видела, исчезала, как в озёрной глади исчезает отражение, потревоженное касанием.
А ночами всё было иначе. Ночами она вся была обращена к Семёну и открыта для него. Она отзывалась на всякое движение, на всякое желание. В её жаркой нежности чудилось что-то жертвенное, словно это она искала его, звала и спасала, а вовсе не наоборот. И Семён не мог насытиться: целовал её мягкие губы, сжимал её груди, а она бесстыже обхватывала его ногами. В их соединении не было страсти – только неутолимая жажда. А может быть, Епифания просто отдавала то, что он дарил ей сам.
– Счастлива ли ты, Епифанюшка? – однажды спросил он.
– Да, Сеня, – ответила она.
Но у него в душе отчаянно билось: не верю, не верю, не верю.