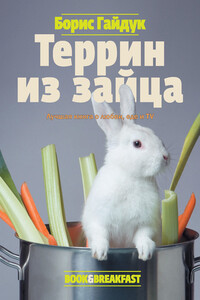Памяти Ахматовой | страница 4
Он же добавил: «Именно это [смертность] она имеет в виду, моделируя свое восприятие жизни в юности:
И вот я, лунатически ступая,
Вступила в жизнь и испугала жизнь:
Она передо мною стлалась лугом,
Где некогда гуляла Прозерпина».
Своей ли смертности? Да и смертностью ли испугаешь жизнь?
Ведь вообще-то:
Смерти нет — это всем известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть — пусть расскажут мне.
7
Повторюсь:
«В сущности никто не знает, в какую эпоху он живет».
Действительно – в какую?
Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
И далее:
О, как я много зрелищ пропустила,
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встречала…
И далее:
Я не в свою, увы, могилу лягу.
Жутко подумать – в чью.
8
А.Нейман хорошо сказал: ничего общего, у нее ни с кем нет ничего общего…
«Я уходил, ошеломленный тем, что провел час в присутствии человека, с которым не то чтобы у меня не было никаких общих тем (ведь о чем-то мы этот час говорили), но и ни у кого на свете не может быть ничего общего».
9
«Где некогда гуляла Прозерпина»…
То же и у Мандельштама, хотя и не везде (см. ниже):
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Почему, черт возьми, у этих грамотных и практичных, вдобавок, таких озабоченных своей смертностью акмеистов – вдруг Прозерпина? Почему не более благозвучная, вдобавок, аутентично греческая, а не вторично-латинская – Персефона?
Боюсь, не только потому, что «Персефона» опасно перекликается с «Петрополем», что, конечно, недопустимо. Думаю, прежде всего из-за того, что это слово хоть и красивое, но (как и Прозерпина) чужое – не греческое. Никакой аутентичности. Увы, индоевропейское догреческое, проходом минойское, появляющееся в безразличных греческим диалектам вариантах (например, гомеровское Persephoneia (Περσεφονεία), а также очевидно восходящие к санскриту Persephassa (Περσεφάσσα) и Persephatta (Περσεφάττα)), вдобавок, не имеющее греческой этимологии. Иными словами, для всякого, кто, как наши гимназисты, учил древнегреческий и общался с ассириологами, Персефона – безродное, кошмарно никакое, в отличие от несомненно латинского Proserpina– впрочем, тоже очень странного. Неспроста чуткий знаток родной латыни Цицерон в диалоге DeNaturaDeorum («О природе богов», 2,26) так неудачно рассуждал о Прозерпине. Какой-то знаток выводил ее из