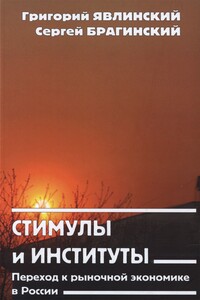Перспективы России | страница 29
Другими словами, это был (и есть) рост, не сопровождающийся модернизацией страны, своего рода рост без развития, который сопровождается некоторым увеличением доходов, но не дает никаких оснований для исторического оптимизма. На самом деле совершенно неудивителен и кажущийся на первый взгляд необъяснимым факт, что на фоне роста доходов, а в ряде сегментов — и настоящего потребительского бума доля людей, которые в ходе социологических опросов соглашались с утверждением, что в целом страна движется в правильном направлении, за эти годы не увеличилась, а уменьшилась. Ощущение временности, случайности вроде бы очевидных экономических успехов присутствует, часто в неосознанном виде, у большинства участников хозяйственного процесса, в том числе и у тех, кто оказывается в результате этих успехов в несомненном выигрыше.
Действительно, ситуация кажется парадоксальной. Доходы в 2002-2005 гг. действительно росли достаточно быстро — это доказывается не только статистикой (любая статистика условна, когда речь идет об агрегатных стоимостных показателях), но и реальным ростом продаж практически на всех потребительских рынках. Общие условия жизни, во всяком случае, не ухудшились, да и социальное расслоение общества в эти годы существенным образом не увеличилось. И все-таки даже социологические опросы показывают, что ощущение того, что все идет как-то не так, чувство тревоги и неуверенности по большому счету усилилось. Частично, конечно, здесь присутствует эффект несбывшихся политических ожиданий. Но в основе, рискну утверждать, все-таки лежит другое, а именно: присущее большинству активных людей в стране, пусть часто и на интуитивном уровне, ощущение того, что в нынешнем виде и на нынешнем своем месте в мире российская экономика не способна обеспечить выживание страны в долгосрочной перспективе. При этом, употребляя выражение «в долгосрочной перспективе», я имею в виду не столетия, а гораздо более близкую перспективу, укладывающуюся в рамки жизненного горизонта трудоспособного человека и большинства экономических субъектов.
Этот тезис, в справедливости которого я убежден, конечно, нуждается в более подробном обосновании, и я постараюсь его здесь привести.
Когда говорят о том, что бедность — это не катастрофа; что нет ничего страшного в том, чтобы потратить несколько десятилетий на формирование условий для современного гражданского общества; что большинство стран — экономических лидеров современного мира в свое время переживали в своей истории сходные периоды, и это не помешало им в конце концов стать тем, чем они сегодня являются, есть немало оснований усомниться в применимости этих утверждений к нашему конкретному случаю.