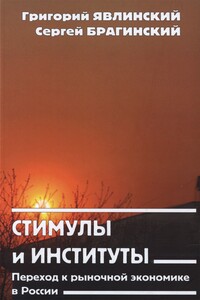Перспективы России | страница 27
Так или иначе, структурный перекос экономики в сторону сырьедобывающего сектора, о котором мы много говорили выше, породил именно тот тип капитализма, который наиболее органично соответствует роли этого сектора в мировой экономике, а именно — капитализм застойного, периферийного типа; капитализм, лишенный стимулов и механизмов для опережающего или даже догоняющего развития.
Другими словами, страна вновь оказалась в своего рода исторической ловушке. Отставание от группы наиболее развитых экономик объективно обусловливает малую эффективность экономики в целом, а значит — в краткосрочном аспекте делает добычу и экспорт сырья наиболее эффективными и прибыльными видами деятельности, что, в свою очередь, обусловливает концентрацию ресурсов именно в этом секторе и тем самым консервирует и усугубляет отсталую структуру экономики. Кроме того, естественным следствием такого рода ситуации является хронический отток капитала и интеллекта из страны (те их части, которые превышают потребности, предъявляемые механизмом обслуживания высокорентабельной эксплуатации природных ресурсов, оказываются невостребованными и уходят в более развитые зоны мирового хозяйства), а также высокий уровень коррупции, неизбежно сопровождающий дележ ограниченного сырьевого «пирога» (доступа к эксплуатации природных ресурсов) между различными предпринимательскими и административными группами, располагающими крупными деньгами, властью и влиянием. Страна оказывается оттесненной на глубокую периферию современного глобального капитализма и вынуждена довольствоваться в нем преимущественно низкодоходными и малоперспективными нишами. (Кстати говоря, высокие цены на нефть, характерные для последних лет, отнюдь не отменяют справедливости утверждения о низкой доходности этой ниши — хотя бы потому, что доходы от экспорта нефти, которая, безусловно, является национальным достоянием, а не собственностью отдельных лиц, необходимо оценивать в расчете на каждого жителя страны, а не на узкий круг лиц, непосредственно осуществляющих ее добычу и продажу.) Соответственно, будучи мало или вообще никак не представленной в наиболее быстрорастущих и ведущих к возникновению интеллектуальной ренты секторах, такая экономика по сути лишается возможности когда бы то ни было преодолеть экономический, а следовательно, и социальный разрыв, отделяющий ее от центров современного мирового капитализма.
Разумеется, само по себе это еще не катастрофа. Сегодня, как это мы все можем видеть на примере окружающей нас действительности, такая экономика оказывается в состоянии худо-бедно, но все же обеспечивать существование страны и ее населения и даже порождать определенный рост потребления, и в некоторых секторах — рост достаточно впечатляющий. Это не может не порождать в политической и деловой элите страны, которая является главным бенефициаром такого роста, иллюзию движения страны к процветанию. В периоды же улучшения внешней конъюнктуры, то есть заметного повышения мировых относительных цен на сырье и топливо (что мы и имеем с 2002 года и, вполне возможно, будем иметь в обозримом будущем), ощущение того, что все идет в целом неплохо, становится более выраженным и охватывает не только верхушку общества, но и большую часть серединных слоев общественно-экономической пирамиды. Более того, в такие периоды даже профессиональные международные экономические организации, следящие за состоянием различных частей мировой экономики, начинают выдавать в отношении перспектив роста экономики подобного типа весьма оптимистические заключения, обнадеживающие как простую публику, так и профессиональных инвесторов, которые в результате начинают увеличивать свои вложения в различного рода финансовые инструменты, эмитируемые в таких экономиках. (В конце концов, профессионалы — тоже люди, со всеми присущими им слабостями, и надежда заработать быстрые деньги сплошь и рядом пересиливает здравый смысл и трезвый расчет).