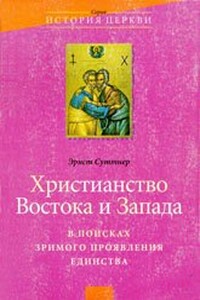Попытка психологического истолкования догмата о Троице | страница 15
Итак, архетип вновь себя утвердил. Мне было важно показать, что архетипические идеи относятся к нерушимым основаниям человеческого духа. Сколь бы долго они ни оставались в забвении или под спудом, они всегда возвращаются, зачастую в диковинно переиначенном обличье и с какими-нибудь личностными вывертами или интеллектуальными искажениями, как в случае с арианской христологией (омиусия), они всегда воспроизводят себя в тех или иных новых формах, будучи вечной истиной, внутренне присущей человеческой природе.[19]
Влияние Платона на мыслителей последующих столетий едва ли можно переоценить, но даже если это и так, его философски понятую формулу троичности все же никоим образом нельзя напрямую связывать с зарождением христианского догмата о Троице. Ведь речь в данном случае идет не о философских, т. е. сознательных, но о бессознательных и архетипических предпосылках. Платоновская формула троичности даже противоречит христианской Троице в одном существенном пункте: платоновская триада построена на оппозиции, тогда как в Троице ничего похожего на оппозицию нет - напротив, в себе самой она всецело гармонична. Три Лица христианской формулы характеризуются так, что их невозможно вывести из платоновских предпосылок: разве вытекают имена "Отец", "Сын" и "Святой Дух" из тройки как таковой? Самое большее, платоновская формула могла составить некий интеллектуальный остов, а заполнявшее его содержание происходило из совершенно иных источников. С точки зрения формы Троицу можно понять и в платоновском смысле, но в содержательном плане мы вынуждены опираться только на психические данности, т. е. иррациональные, непредопределяемые логически данные. Иными словами, мы должны проводить различие между логической идеей Троицы и ее психологической реальностью. Последняя выводит нас к египетским воззрениям, которые на много веков старше идеи Троицы, а затем и к архетипу, обеспечивающему подлинное и печное право на существование троической идеи вообще.
Психологическая данность включает Отца, Сына и Святого Духа. Если в качестве посылки избрать "Отца", то отсюда логически вытекает "Сын"; "Святой Дух", однако, логически никак не связан ни с "Отцом", ни с "Сыном". Здесь нам приходится иметь дело с какой-то особой данностью, покоящейся на иной предпосылке. Согласно древнему вероучению, Святой Дух есть "vera pertona, quae a filio et patre missa est" [истинная Ипостась, посланная от Сына и Отца]. Его "processio a patre filioque" [исхождение от Отца и Сына] есть "навевание", а не "порождение", как в случае с Сыном. Это довольно-таки диковинное представление согласуется с сохранившимся еще в средние века разделением "corpus" и "spiramen", причем под последним понималось нечто большее, нежели просто "дыхание". Собственно, этим словом обозначалась