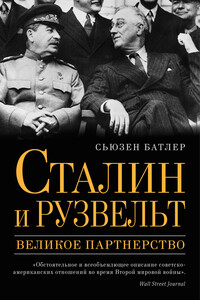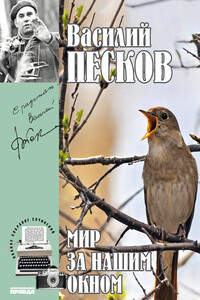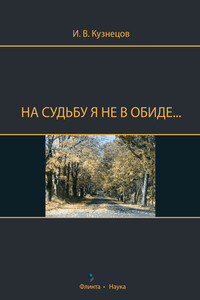Лавсаик Святой Горы | страница 33
В древнем «Эвергетине»[90] рассказывается, как благоговейный паломник принес авве скита виноградные грозди и старец, движимый сыновней любовью, послал их скитянину, старшему возрастом и болезнующему, а тот, побуждаемый братолюбием, не прикоснувшись к ним, отослал соседу. Но и сей передал полученное другому в боголюбивом помышлении, что тот нуждается в них больше, чем он. Так переходил дар от брата к брату нетронутым, доколе один снова не отослал его авве. Старец же прославил Бога за дивное воздержание и братолюбие отцов.
Нередко случается, что соседние обители присылают пустынникам милостыню, но распределить ее оказывается делом непростым, ибо каждый медлит прийти за своей долей, и не почему другому, как из опасения обездолить соседа и соподвизающегося брата. И лишь Богу открыто, сколь многие являются за ней с тем, чтобы сразу по получении отправить в Агос Василиос[91], где имеется убежище для престарелых.
Есть и у пустынников свои нищие и свои богадельни. Там, наверху, вдали от всякого общения, живут в пещерах и хижинах тринадцать монахов, греков и румын, братьев Христовых, уповающих лишь на Господа и имеющих утешением отца Стефана из Святой Анны. Сей братолюбивейший муж то на ослике, то на собственных плечах доставляет им тамошнюю «роскошь», то есть сухари, временами присылаемые из монастырей и постоянно — от нищих соседей-отшельников, которые поддерживают столь же нищих собратий. А что получают те и другие жертвователи взамен? Величайшее благодарение, непрестанные молитвы о живых и усопших, о милующих и питающих, обо всем мире.
Взирая на сих молитвенников, внимательный наблюдатель увидит мозоли на ладонях от бесчисленных поклонов у одних, стертые четками до кости пальцы у других и совершенную любовь без различения племени у всех ко всем.
Итак, пусть придут сюда философы мира сего, находящие христианскую цивилизацию непригодной для мирного сожительства народов. Пусть увидят они дивный пример братской по Богу любви и уяснят различие между чудовищным состоянием «классовой борьбы», в которую ввергли несчастное человечество прогрессистские идеи двадцатого века, и вседневным исполнением правила: Никто не ищи своего, но каждый пользы другого (1 Кор. 10, 24).
Сегодняшняя Катунакия переживает время двойного испытания. Во-первых, нищие отцы, кормившиеся до сих пор от рукоделия, теперь оставили его как не находящее спроса. Ложки и гребни, печати для просфор, чаши и другие поделки из дерева вытеснены промышленными изделиями из металла, фарфора и пластмассы. К тому же и леса, дававшие подходящую древесину, семь лет назад выгорели, а найти нужный материал на уцелевших участках — задача нелегкая. Другое испытание, будучи следствием первого, но скорее духовного порядка, связано с тем, что некоторые катунакиоты посвятили себя иконописи, а занятия ею, принося определенный доход, заставляют вступать в деловые сношения с миром и вести жизнь скорее общинную, чем пустынническую.