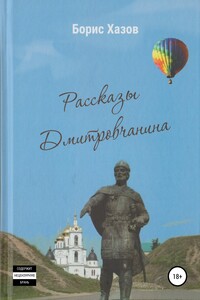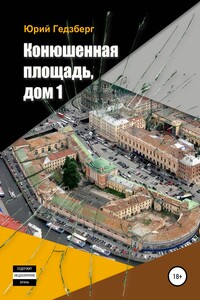Любовь в нелетную погоду (Главы из романа) | страница 2
Постоянные смешки сверстников…его не интересовали мальчишечьи игры, а увлекало рукоделие: в семь лет он хорошо вышивал крестиком, мог связать крючком варежку и совсем не стыдился этого. Потом он бросил это занятие и больше не брал в руки иголку с ниткой, не пришивал сам пуговицы, но женское в характере надежно угнездилось — облегченность сознания, отсутствие твердой воли и цели (всегда плыл по течению), взрывная обидчивость и злопамятность.
Он подрастал в провинциальной темноте и дикости, окружающая жизнь рождала в нем ответную жестокость; однажды Толя видел, как муж смертным боем бил жену, заподозренную в неверности, и никто не заступился — сами разберутся. На полу, в луже крови чернели комья вырванных волос. И то бывало, Толю поколачивал сожитель матери…
Не потому ли (детские воспоминания не стираются), много лет спустя, когда Женя будет ему читать полюбившееся стихотворение Лорки «Ночью жену чужую увел я на край деревни…», он хмыкнет, затянувшись «Беломором», и выговорит, на этот раз, испанскому поэту. — То, что красиво в стихах, совсем не такое в жизни. Что он этим хотел сказать — «цыган до смертного часа», так? Цыган он и есть цыган, — отец с удовольствием сделал ударение на «ы», — и у нас, и в Испании. Ему что коня украсть, что чужую бабу сманить. Раз чужое — не тронь.
Толя небрежно учился, оставался на второй год. Он был ленив. Послереволюционная полуда, пена советской пропаганды омывала его бодрящим душем. В свое мещанском болотце, пассивно идейный, он ощущал в себе силы строить светлое будущее. Но никакой Днепрогэс его бы не увлек, ведь там надо вкалывать, ломать спину.
Единственное, что было ему по душе — зрелища, цирк, а позднее театр, гены брали свое. Он не для будней, Толя ощущал себя человеком — праздником. Он пошел в местную театральную студию, где ему за характерную внешность поручали роли отрицательных героев. Но в студии его не приветили, не только по недостатку способностей — за скверный характер, двуличие, умение всех поссорить.
В конце двадцатых годов Анна Кузьминична с Толей переехала в Москву к своей младшей сестре — ткачихе, обязанной ей пропитанием в лихолетье, и они поселились в неуютной комнате на Домниковке, вблизи трех вокзалов. Толя ехал в качающемся, дребезжащем составе, и также качалась его смутная душа — в ожидании перемен в застоявшейся студенистой судьбе. Семечки лузгали прямо на пол вагона, Толя лузгал равнодушными глазами пробегающие за окном неказистые станции, хмурые города и поселки.