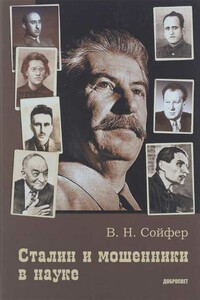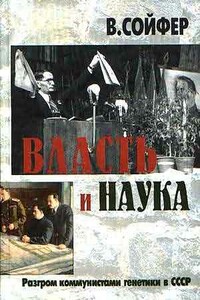«Компашка», или как меня выживали из СССР | страница 45
Несколько раз перед семинарами ко мне приходили представители КГБ и продолжали пугать, повторяя теперь, что у меня есть один путь уехать: начать помогать органам и прекратить мою, как они называли, «противоправную деятельность». Как и раньше, я от их предложений отказывался наотрез.
Моя почтовая связь полностью оборвалась. Раньше я получал по нескольку писем в день от друзей и коллег со всего мира, теперь мой почтовый ящик стал пуст. Ничего я не получал ниоткуда — ни из других городов СССР, ни из-за рубежа. Стало также почти невозможно дозвониться до других городов и практически невозможно поговорить с заграницей.
Произошло еще большее ущемление меня в правах. Как-то мы с женой получили приглашение от Артура и Доны Хартманов посетить концерт Владимира Фельцмана. Это уже был не первый концерт Володи в резиденции американского посла. (Володе не давали играть в нормальных концертных залах, а посылали в Сибирь, где этот выдающийся пианист иногда слышал из зала от подвыпивших «слушателей»: «Эй, слышь, а ты “Барыню” могёшь?»). По окончании концерта Хартманы пригласили всех поужинать, а после ужина мне представили одного из гостей, им был сын американского президента — Рональд Рейган-младший, который был балетным танцором, но незадолго до приезда в СССР переквалифицировался в журналиста. Я пригласил его посетить меня, и мы договорились, что он позвонит мне через день в 9 утра. Однако позвонить ему не удалось: в 8.45 мой телефон замолчал. Молчал он ровно, день в день, — полгода. Как мне объяснили на телефонной станции: его отключили «за неправильное использование». Я так и не добился ответа на вопрос, а что же это значит — орехов телефонной трубкой я не колол, как пресс не использовал, вечного двигателя с его помощью не строил.
Одна вещь меня особенно удивила, а вторая возмутила. Удивило то, что говорили мы с Рейганом фактически на американской территории — в резиденции посла США. Кругом стояли только американцы. Как же это стало известно, когда именно Рейган-младший собирался мне звонить? Возмутило же то, что, хотя телефон молчал, на телефонной станции потребовали вносить телефонную плату в срок каждый месяц, предупредив, что иначе его отключат навсегда.
Самым, пожалуй, трудным было для меня в те годы полное бесправие. Поскольку все приказы об ущемлении в правах приходили из КГБ, всякие законы и постановления автоматически переставали распространяться на нас, и ни одна организация не отвечала ни на один вопрос по существу, а каждый начальник, к которому удавалось пробиться, начинал нести такую чушь и отсебятину, что становилось противно. Я написал десятки обращений Генсекам, обстоятельные письма на два прошедших за тот срок съезда партии, обращался не только со своими болями, а пытался объяснять, как эта практика изоляции, запугивания и давления на ученых вредна для самого СССР и как она опасна для репутации страны, но всё было тщетно. Писал я в прокуратуру, министрам, их заместителям, в разные партийные и советские организации. Более сотни писем было отправлено за эти годы. КГБ перекрывал все каналы, а агенты КГБ, навещая нас, всё время пугали и стращали.