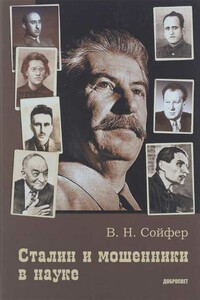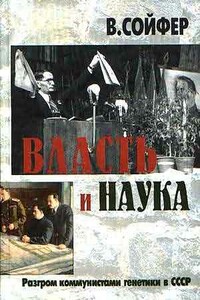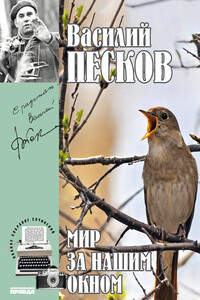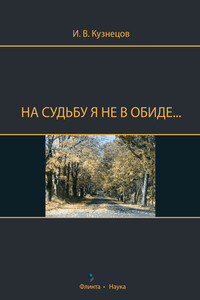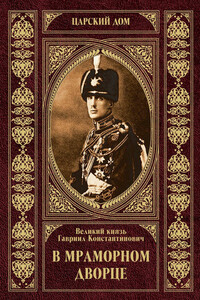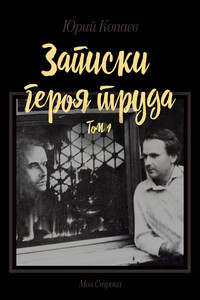«Компашка», или как меня выживали из СССР | страница 24
]. Летом 1957 года после чтения одной из зажигательных речей Тимирязева, произнесенных в самом начале века, когда он говорил, что без физики и химии не понять тайн физиологии, я с восторгом пересказал эти слова Дубинину, и он вдруг предложил мне захватывающий проект. Он знал, что в МГУ открывается новая специализация — биофизика и что туда набирают студентов.
— А хотите, Лера, — предложил мне Дубинин, — я поговорю с академиком Таммом, который помогает формировать новую кафедру, чтобы вас перевели на физфак на первый курс?
Я уже был на четвертом курсе, но идея меня так захватила, что без секунды колебания, лишь захмелев от возможности такого счастья, я проговорил: «А неужели это возможно?!». Пошли переговоры Дубинина с Таммом, они писали какие-то письма, потом меня пригласил поговорить ректор МГУ И. Г. Петровский. Это была не простая беседа, а что-то вроде экзамена на зрелость. 20 декабря 1957 года приказом зам. министра высшего образования М. А. Прокофьева меня перевели на первый курс физфака МГУ, и началась для меня новая жизнь. Хоть я и решил, что надо закончить агрономическое образование заочно (диплом агронома я получил через три года), но на физическом факультете МГУ была уже совсем иная среда, иной уровень, и я забыл об Атабекове на многие годы.
5. Аруг мой — враг мой
Вторично судьба свела меня с Атабековым в 1970-м году. В том году Турбин, перебравшийся из Минска в Москву, вспомнил, что я защищал на его кафедре в 1964 году кандидатскую диссертацию. Работа ему понравилась, и он даже предложил ученому совету подумать над тем, не присудить ли мне за нее докторскую степень, но меня тогда это предложение испугало, и я сам категорически от него отказался.
За то время, которое я опустил в своем рассказе, произошли следующие события. 12 августа 1961 года я женился на выпускнице 1-го Московского мединститута Нине Яковлевой. Тогда Игорь Евгеньевич Тамм еще раз кардинально помог мне: он предложил подать документы в аспирантуру только что образованного в составе Института атомной энергии имени Курчатова радиобиологического отдела. Аспирантам этого института платили по тем временам огромные деньги — 130 новых рублей в месяц! Финансово мы были спасены. Затем Судьба еще раз смилостивилась над нами: совершенно случайно, на вечере в МГУ, мы познакомились с врачом из подмосковной Ивантеевской горбольницы, которая сказала, что они ищут врача и могут дать комнатенку. Так мы и оказались жителями Ивантеевки, счастливыми обитателями шестиметровой комнаты в бараке без воды, света, удобств и кухни. Но в слове «счастливыми» нет и тени иронии. Мы и были счастливцами. Я ездил на работу на электричке, метро и автобусе (тратя по 6 часов в день на дорогу туда и обратно), но какое это было счастливое время! Работа в Курчатовском институте была очень интересной, мой новый шеф, Соломон Наумович Ардашников, оказался изумительным человеком, в его лаборатории царил дух дружбы. Кстати, именно тогда я повстречал в городе сына Анаиды Иосифовны Атабековой — Сандрика Майсуряна, который закончил Тимирязязевскую академию и который стал жаловаться на трудное житье. Я предложил тут же Майсуряну переходить к нам в лабораторию, где не жизнь, а радость, и начал уговаривать своего шефа взять Сандрика к нам. Дрдашников с ним встретился, но брать его к нам отказался, зато Сандрика взял в микробиологическую лабораторию в нашем же Радиобиологическом отделе