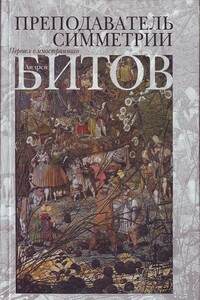Жизнь без нас (Стихопроза) | страница 4
Сказал поэт. Сказавши, был таков.
Мы же - такие, то есть дураки...
"Жизнь продолжается рассудку вопреки",
Сказал другой поэт, давно таков,
Но тоже родом из страны для дураков.
Хоть здесь не жизнь, в Париже - тоже смерть.
Я не хочу в глаза ее смотреть.
А не смотреть возможно только здесь:
"Нет, весь я не умру..." - И вышел весь.
"В Европе холодно, в Италии темно..."
Какой дурак здесь прорубил окно?
Чтоб не понять, откуда дует в .... ...
Прости, Империя! Сдай умникам Европу,
Закрой окно, обнимемся вдвоем,
Два дурака, и, "глядь, как раз умрем".
* * *
Как безразлично "до свиданья"...
Разлуке - встреч не обещай.
Как удалилось расстоянье,
Как умалилось расставанье
И как наполнилось "прощай!".
Прощай! - другой судьбы не будет!
Иль это было не со мной,
Иль это не было судьбой?..
Прости за все, а Бог рассудит.
А ты - прощай, и Бог с тобой.
ПОСЛЕСЛОВИЕ1
И если автор имеет намерение говорить о таких вещах своим слабым, заплетающимся языком, то отчего не поговорить в доступной форме...
В коридоре старинной питерской коммуналки зазвонил телефон. Квартира была тиха, как бумага. Я снял трубку - просили мою тетку. Тетка была большой доктор и больной человек, мы ограждали ее от осады бесконечных вызовов.
Незнакомый и какой-то чуждый мне голос с чрезмерными придыханиями умолял меня все-таки позвать ее к телефону. Но тетки и впрямь не было дома. Ему этого было мало. Прознав, что я ейный племянник, он обратился ко мне, мальчишке, как к вышестоящей инстанции.
- Понимаете, - сказал он, - умирает великий русский писатель.
"Это что же у нас за великий русский писатель?" - ехидно подумал начавший пописывать молодой человек.
- Михаил Михайлович Зощенко, - услышал я.
О, я хотел бы, конечно, узнать теперь, что это был за интеллигентный, умный и смелый человек в 1958 году (постановление было отменено окончательно лишь к столетию А. А. Ахматовой).
Я, конечно, передал просьбу тетке, но без особой убежденности. В нашем недобитом, затаившемся семействе Зощенку не особо жаловали, конечно, не из-за постановления, а за то, что полагали его издевавшимся над поверженным классом.
Несправедливость! Зощенку не признавали свои. Впоследствии я неоднократно имел этому подтверждение.
И опять один Мандельштам оказался справедлив:
"Настоящий труд - это брюссельское кружево, в нем главное - то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы...
У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду.