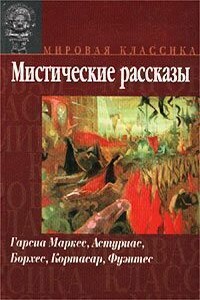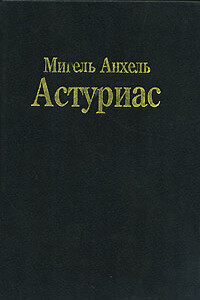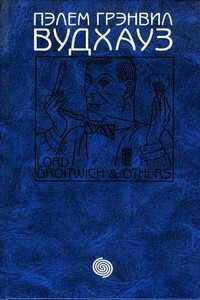Глаза погребенных | страница 49
— Не пугайся! Вообще-то он в самом деле знатный, из благородных. Но по ночам — просто зверь, никто лучше него не может охранять дом. Входи. Решилась наконец разыскать меня. Это отрадно. Кто же будет любить тебя больше, чем твой собственный брат? Я — да, впрочем, что тебе рассказывать — был на побережье с матерью, когда умер отец…
Вместе с гигантским псом они вошли в комнату, не слишком просторную, где вдоль стен стояли застекленные шкафы с бутылками и консервными банками, висели окорока и мешочки с орехами, сухими фруктами и шоколадом.
Хуамбо пододвинул маленький табурет к покрытому темно-красной скатертью столу, но, покосившись на внушительный зад сестры, отставил табурет. Табуретик для нее? Она большего заслуживает!.. И поспешно подтащил кресло, которое подошло бы скорее для какого-нибудь пузатого монаха или чванного феодала средних веков.
— Ты ведь любишь пиво… Во всяком случае, любила раньше… — Он вынул из белого шкафа две бутылки пива, запотевшие от холода. — Помнишь, машинисты, или кочегары, или проводники всегда угощали тебя черным пивом, смешанным со светлым? Они прозвали тебя Темносветкой и говорили тогда, что пьют твою кровь. А ты всюду ходила со мной, потому что присутствие мальчишки, каким бы маленьким он ни был, заставляло всех относиться к тебе уважительно…
— А ну-ка укуси, укуси мой палец! — Сдув пену и потягивая пиво, мулатка поднесла к губам брата мизинец левой руки.
— Нет, Тача, я не разыгрываю младенца! Захотелось вспомнить былое, высказать тебе то, что я могу лишь тебе одной сказать, зная, что только ты это можешь понять! Ты с собой таскала меня, чтобы вызывать к себе уважение, а ведь они мне давали деньги — доллар, а то и два — за то, чтобы я ушел куда-нибудь подальше, посвистеть… Я делал вид, что соглашаюсь, а сам прятался и подглядывал, у любопытства острые глаза… Я видел, как тебя чмокали… запускали руки за вырез платья… Видел, как иногда пытались задрать платье, — правда, ты никогда не позволяла, чтобы тебе кто ни попало задирал юбку, ты сжимала коленки крепко-крепко, стискивала ноги плотно-плотно, как бы тебя ни щипали и ни душили поцелуями…
Тача, до сих пор сохранявшая безразличный вид, уставилась — глаза, как два горящих ненавистью угля, — в лицо брата, взглядом приказывая ему замолчать. Как это красиво — под предлогом воспоминаний — вытаскивать все грязные тряпки на солнце! А не лучше ли ему заткнуться? Брат осекся. Молчание становилось все более мрачным. Слышалось лишь прерывистое дыхание собаки да жужжание мух; пена сползала со стенок бокалов, растворяясь во влаге.