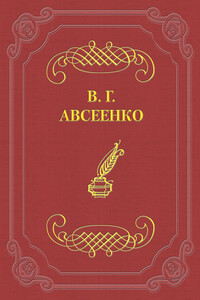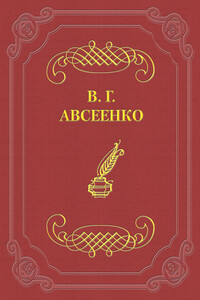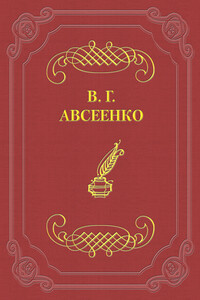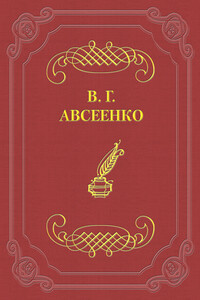Г. Некрасов, заимствовавший свое чувство народности из петербургских журналов, естественно, должен был положить на нее тот самый отпечаток, с каким она являлась в народолюбивом сознании людей, наблюдавших ее у Палкина и под балаганами: русский простолюдин предстал в стихах г. Некрасова в красной рубахе, с серебряною серьгой в одном ухе, «круглолиц, белолиц, кудри – чесаный лен»
[3], в плисовых шароварах и с гармоникой в руках. Впоследствии, когда знание и понимание народности сделало успехи в самой петербургской журналистике, когда точка зрения на народность в ней переменилась, и вместо ухарства и бахвальства стали замечать в народной русской жизни лохмотья, нищету, тяжкое бремя чернорабочего труда, в мнимонародной поэзии г. Некрасова явились другие краски. Вслед за журналистами он увидел нищету и лохмотья, кумачовая рубашка сменилась рубищем, трактирная песня – стоном бурлаков, тянущих лямку. Но вдохновенье опять шло не из непосредственного наблюдения жизни, а из журнальных статей и потому опять звучало фальшиво; действительные черты народного духа, какие указывал, например, г. Достоевский в «Записках из Мертвого дома» или Андрей Печерский
[4], остались не замеченными г. Некрасовым, хотя у него есть стихотворения, прямо навеянные «Записками из Мертвого дома». Фальшивость происходила оттого, что почерпнутые у г. Достоевского мотивы г. Некрасов проводил сквозь горнило воззрений редакции «Современника», изменял точку зрения, и в этом процессе перегорали краски, полученные из непосредственного художественного наблюдения. Впрочем, поддельность народной поэзии г. Некрасова так очевидна, что излишне распространяться об этом предмете.
Гораздо любопытнее взглянуть, как отразилось в стихах нашего поэта то движение социальных идей, которое с половины сороковых годов составляет внутреннее содержание петербургской журналистики. Мы видели, что критика, просмотревшая социальное и историческое значение нашей художественной поэзии послепушкинского периода и заметив только ее внешнее содержание, ее темы, посвященные любви, женщине, красоте, осудила эту поэзию во имя общественных и гражданских идей. Осудив содержание, она осудила также и форму, в художественной виртуозности которой она видела негу звуков, не гармонировавшую с теми новыми темами, которые журналистика претендовала внести в поэзию. Журнализм потребовал от поэтов суровых песней, суровых образов, которые воплотили бы в себе борьбу человечества за социальные права, в которых звучали бы отголоски страданий, стоны пролетариев, задавленных социальным неравенством. Насколько все это было применимо к русской жизни, вне специальных условий крепостного права – журналистика не рассуждала. Выйдя сама из условий чужой жизни, она поставила своею задачею отыскать во что бы то ни стало аналогические условия в русских порядках и так или иначе ввести русскую жизнь в социальное движение, вне которого наш журнализм не умел найти для себя содержания. Явилось требование, чтобы наша поэзия служила отголоском этой борьбы, чтоб она забыла «песни любви и лени». Новая поэзия должна была нарядиться в лохмотья социальной нищеты, облечься в «суровый, неуклюжий стих»