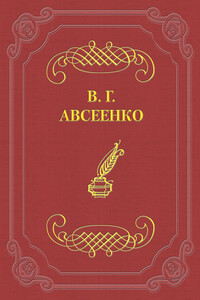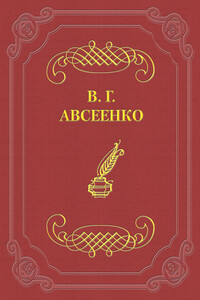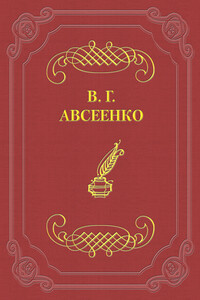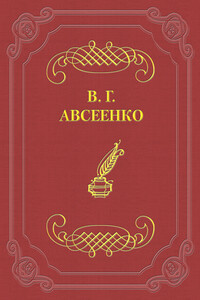Поэзия журнальных мотивов | страница 7
сделались предметом раздора в нашей периодической печати, усмотревшей в этом определении поэта прямое противоречие возникавшим новым требованиям. Г. Некрасов отозвался на это движение стихотворением: Поэт и гражданин, в котором ставит спорный вопрос таким образом:
Он ее прибавляет, было ли бы родине легче если бы поэт изменил своему назначению. В этом же стихотворении он посвящает «сладким» поэтам такие строки:
Однако, разве лучше, и достойнее, и полезнее лаять псом на ветер?.. В обстоятельствах какие описывает г. Некрасов в вышеприведенных стихах люди литературой не занимаются, ни чистою, ни нечистою, а потому аллегория лишена значения и силы.
Поэтическая деятельность г. Некрасова так тесно сплелась с судьбами петербургской журналистики, что ее нельзя рассматривать вне этой связи. Выступив на литературное поприще в одно время с возникновением нового журнального направления, он до такой степени точно сообразовал свою поэзию с этим направлением, что нередко стихи его служили только рифмованным перифразом журнальных статей и постоянно – отголоском журнальных требований. Услужливость г. Некрасова в этом отношении не имеет пределов: перебирая пять томов его стихотворений[1], можно проследить по ним весь ход нашей журналистики. Возникло, например, в сороковых годах требование народности, и г. Некрасов написал своего «Огородника» и «В дороге» как раз в том самом духе и направлении, как понимали народность в петербургских редакционных кружках. Правда, эта народность очень походила на петербургского ряженого троечника, в плисовой поддевке и шляпе с петушьим пером, насвистывающего трактирную песню; но наши литературные кружки, и в особенности кружок Белинского, только и понимали народность в этом ряженом виде, в каком она являлась у столичных quasi-ямщиков и у Палкинских[2] половых прежнего времени. Настоящая, неряженая русская жизнь оставалась всегда чуждою нашим петербургским наблюдателям: они понимали в ней только бахвальство дворового слуги и ухарство