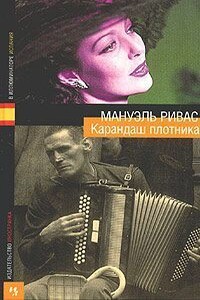Старость шакала | страница 4
Но старик ждать не мог и приходилось терпеть. И безжалостные поборы учуявших запах денег врачей, и холод больничных кабинетов, и даже вопросы, за которые на зоне принято отвечать тому, кто спрашивает.
— Сидели, я спрашиваю? — повторила Екатерина Александровна и поправила очки.
Ну, это уже слишком!
— Вы же сами видите, — засипел старик, кивнув подбородком на татуировки, — может, подробности хотите? Пожалуйста: количество куполов означает…
— Меня не интересует — перебила Екатерина Андреевна — что это там у вас означает.
— Что же вам надо? — растерялся старик.
— Можете хоть зарубки ставить, как Робинзон Крузо, — все больше распалялась пульмонолог, будто не расслышав вопроса пациента, — год — зарубка, еще год — еще зарубка. Я, мой дорогой, почти тридцать пять лет в медицине и мне достаточно моих ушей и стетоскопа, чтобы выслушать амфорическое дыхание. Подозреваю — после туберкулеза. Одевайтесь!
Она гордо уселась за стол, взяла ручку и чистый бланк.
— Как, говорите, ваша фамилия?
— КАСАПУ!!!
Крик охранника Санду был достопримечательностью кишиневской тюрьмы. Нечто подобное выпадало, должно быть, жене диктора Левитана в пылу семейной ссоры. То еще испытаньице: трубный баритон, сбивающийся на истерический визг. И хотя зэки посмеивались — почаще бы он дежурил, глядишь, тюрьма и рухнула бы — после каждого такого выкрика оглушенная камера затихала, чтобы через пару мгновений наполниться нервным шепотком, перебиравшим, словно бусинки на ожерелье, одни лишь матерные слова.
— Касапу, на выход! Давай, старик, пошевеливайся!
Криво улыбнувшись, Валентин Касапу пожал плечами, то ли извиняясь перед сокамерниками, то ли кивая на Санду — что, мол, с дурака возьмешь. Внутри у Валентина легонько поскребывало: ему и в самом деле было неловко перед ребятами, тем более, что подготовился он еще с вечера — знал ведь, что кричать охранник будет громче обычного.
Это было пятое последнее утро Валентина в тюрьме. И все четыре последних утра начинались одинаково — с бешеного крика дежурного. Менялись камеры и этажи, менялись тюрьмы и охранники, а последнее утро каждого срока всегда начиналось одинаково. Дежурные будто только и ждали этого дня, чтобы, затянувшись спертым тюремным воздухом, незабываемо исполнить свою партию и продолжать репетировать дальше — пока не придет время выпускать на свободу очередного мерзавца. В отличие от сокамерников — а сажать стали все больше молодых да глупых, из тех, кто еще не сидел — Касапу заранее поеживался от голоса Санду. И ведь даже вещи собрал накануне, да только — эх, старость, старость — в последний момент закемарил, упершись локтем в свернутый рулоном матрас. Что бы не говорили, а шестьдесят лет — много, насчет этого Валентин готов был биться об заклад. Особенно, если из этих шестидесяти двадцать семь провел за решеткой.