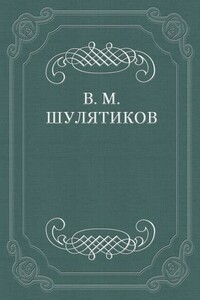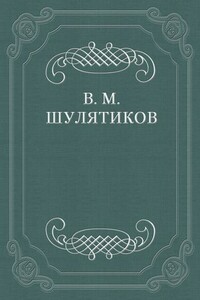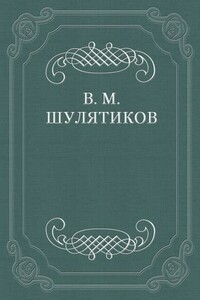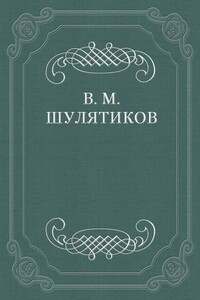Критические этюды (о Бердяеве) | страница 5
Можно, конечно, стоять за то, что в тот или другой данный момент всякие научные исследования не своевременны, что человек должен отдаться исключительно практической деятельности, откликнуться на голос общественных нужд. Против подобной точки зрения ничего нельзя возразить. Но г. Бердяев вовсе не держится подобной точки зрения. Напротив, он считает текущий момент, как нельзя более удобным для спокойного всестороннего самосовершенствования человека. Безбоязненное исследование истины заключается в понятии этого самосовершенствования. Но г. Бердяев, тем не менее, ощущает панический страх перед приходом эволюциониста. Иначе нельзя назвать его отношения к «истине». Разве мы не имеем перед собой примера целого ряда известных искателей истины (вроде Гельмгольца[6]), в глазах которых эволюционный метод не только не убивал поэзии жизни, но даже увеличивал «абсолютную ценность человеческих переживаний».
А панический страх г. Бердяева перед полновластием эволюционной истины объясняется, в свою очередь, ничем иным, как утрированным, болезненным эгоизмом «пришибленной» интеллигентной личности, стремящейся слепо к полноте жизненных переживаний и не желающей поступиться ни малейшей лишней частицей своего «я», лишней частицей тех чувств и настроений, которые могут доставить хотя бы призрачное удовлетворение этому «я».
И ради этого призрачного удовлетворения интеллигентного эгоизма г. Бердяеву приходится очень многим жертвовать. Прежде всего, в жертву «интеллигентному» эгоизму ему приходится принести строгую научность.
Несмотря на сделанные им возражения против полновластия эволюционного и материалистического метода, он объявляет себя сторонником материалистического толкования истории, даже более того, признает это толкование единственно верным. Для того чтобы подобный взгляд примирить с дорогой ему идеей «абсолютной нравственности», ему приходится прибегнуть к иррациональным доводам. Он обращается к метафизической литературе, заимствует свои доказательства у немецких неокантианцев. Он принимает известное учение о нравственности Канта[7] благодаря чему впадает в непримиримое противоречие с самим собой: убежденнейший противник всякого бюрократического начала, он преклоняется перед кантовским понятием о нравственности, перед этой «высшей формулой «мелкобуржуазной нравственности». Заметим в скобках, кантовская мораль – не мораль в широко альтруистическом смысле этого слова, а «холодная, формальная мораль»