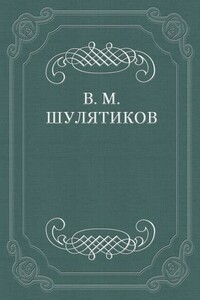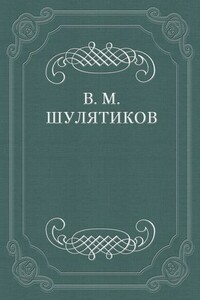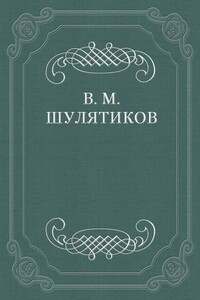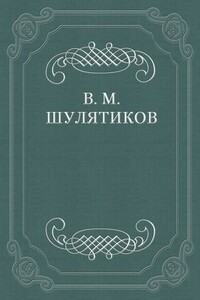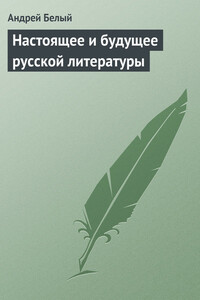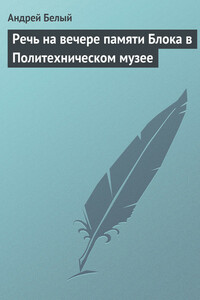Теоретик интеллигенции | страница 2
Здесь мы не будем вскрывать тех исторических, экономических и социальных причин, которые привели к образованию новой интеллигенции: Шеллер в своих романах сосредоточивает внимание исключительно на изображении тех трудностей и терний, которыми была обставлена борьба за существование этой интеллигенции, – интеллигенция разночинцев и «кающихся» дворян. Он описывает гнет материальной обстановки, среди которой росли интеллигенты-разночинцы, описывает ужасы нужды, голода и холода, с которыми им пришлось знакомиться на каждом шагу. Он останавливает свое внимание на том, как ежеминутно интеллигенты-дворяне страдали от предрассудков, составлявших достояние их среды, от фальшивости отношений дореформенной дворянской семьи. Далее все решительно его интеллигенты переживают нравственную ломку, находясь в тисках дореформенного воспитания. И в конце-концов дореформенная среда и дореформенная семья выбрасывают их из своих недр, делают их людьми, не имеющими ни кола, ни двора, принужденными с величайшими усилиями отстаивать свои права на жизнь.
И шеллеровские герои с честью выдержали трудное испытание. Они, как выражается Николай Люлюшин, сами отворили двери будущего, они знают только одно: «что мы сделали, то мы сделали сами… никакие бабушки не ворожили нам, никакие четвероюродные тетушки «со связями» не подсылали различных холопов общества, чтобы расчистить нам дорогу, облегчить нам взобраться по лестнице и растворить перед нами двери».
Путь, которым они шли к этим дверям, способ, которым они растворили эти двери, определил их нравственный облик, их общественное миросозерцание, заставил их выработать своеобразные принципы и убеждения.
Они завоевали себе право на существование, они не погибли в борьбе за свое счастье лишь благодаря труду; лишь благодаря энергичной деятельности. Поэтому они благословили труд и энергию: «постоянное бодрствование и борьба со злом должны быть вечным нашим девизом!» Принцип труда и деятельности свят для них, потому что он подсказан им инстинктом самосохранения. В отсутствии труда, в застое, в бездеятельности они видят гибель. Пример этой гибели был перед их глазами. Дореформенное общество, дореформенные романтики и даже реалисты именно потому так печально завершили свою карьеру, что не умели трудиться, были усыплены гипнозом застоя, отсутствием тяжелых задач и жизненных терний.
«Они не глупы, – говорит об этих прежних интеллигентах один и «новых» людей в романе «Жизнь Шупова». Но их умы развивались односторонне, вследствие постоянных удач. Всеобщий сон и недеятельность общества остановили их развитие. Вообще человек дурень и к тому же способен успокаиваться, почувствовать в том и другом случае свое превосходство над окружающими его личностями и обстоятельствами, и это-то успокоение есть первый предвестник его несостоятельности где-нибудь при новых условиях, вестник его падения. Чем дальше будет он тревожиться за судьбу своих планов, чем больше будет предусматривать опасностей для них, тем будет он развитее. Главное, не надо успокаиваться, надо думать, находиться настороже, размышлять, не поддаваться баловству случая, который, как старая нянька, всеми средствами старается нас усыпить своими ласковыми песнями и сказками, чтобы мы вечно оставались в его баюкающих руках».