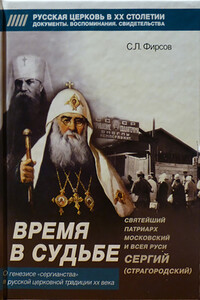Символы превращения в мессе | страница 62
Как можно отчетливо увидеть на примере гностицизма и других духовных течений подобного рода, человек обладает априорной и наивной склонностью принимать все проявления бессознательного за чистую монету и верить, будто в них ему открывается сущность самой вселенной, т. е. последняя истина. Эта гипотеза, какой бы заносчивой она ни казалась на первый взгляд, Представляется мне все же не вполне лишенной оснований, потому что в спонтанных проявлениях бессознательного, в конечном счете, действительно открывается нечто очень важное, а именно психе, которая отнюдь не идентична сознанию, а напротив, при известных обстоятельствах значительно с ним расходится. Проявления бессознательного — это естественная психическая деятельность, ей нельзя обучиться, ее нельзя подчинить своей прихоти. Вот почему проявление бессознательного есть откровение непознаваемого в человеке. Нам нужно только очистить язык сновидений от обусловленных окружением напластований и подставить, к примеру, «орла» вместо «аэроплана», «чудовище» вместо «автомобиля», или «локомотива», «змеиный укус» вместо «инъекции» и т.д., чтобы выйти на более универсальный и фундаментальный язык мифа. Таким образом мы достигаем первозданных образов, которые лежат в основе исех мыслительных актов и оказывают значительное влияние на асе наши представления, в том числе и научные.
По-видимому, в этих архетипических формах выражается нечто такое, что по меньшей мере имеет отношение к таинственной сущности естественной психе, т. е. космического фактора первого порядка. Чтобы спасти честь объективной психе, обесцененной в результате гипертрофии сознания в новое время, я юлжен вновь и вновь подчеркивать, что без психе мы не смогли бы установить самый факт существования мира, не говоря уж о том, чтобы познать этот мир. Судя по всему, что нам известно, можно не сомневаться в том, что первоначальная психе не обладала еще никаким сознанием самой себя. Сознание сформировалось лишь в ходе развития, частично приходящегося в историческую эпоху. Еще и сегодня мы знаем такие примитивные племена, чье сознание ушло не слишком далеко от мрака первобытной психе, и даже у цивилизованного человека вес еще можно обнаружить многочисленные пережитки этого первозданного состояния. А принимая во внимание значительные возможности для дальнейшей дифференциации сознания, представляется даже вероятным, что и сегодня оно все еще стоит на относительно низкой ступени развития. И все-таки это развитие продвинулось достаточно далеко, чтобы сознание смогло утвердить самостоятельность и забыть о своей зависимости от бессознательной психе. Оно немало гордится этим освобождением, но совершенно упускает из виду тот факт, что, хотя и сделавшись по видимости свободным от бессознательного, оно становится зато жертвой производимых им самим слов-понятий. Дьявол изгоняется Вельзевулом. Наша зависимость от слов настолько сильна, что в качестве компенсации появляется философский «экзистенциализм» и указывает на реальность, существующую помимо всяких слов; впрочем, существует изрядный риск, что «экзистенция», «экзистенциальный» и т. п. опять-таки обратятся в слова, тогда как мы будем воображать, что с их помощью нам удалось-таки уловить реальность. Человек может зависеть от слов в такой же степени, как и от бессознательного,— и действительно зависит. Конечно же, продвижение к Логосу было великим достижением, однако человек должен расплачиваться за него утратой инстинкта и реальности — в той мере, в какой он остается в примитивной зависимости от простых слов. Поскольку слова подменяют собой вещи, чего в действительности они, конечно же, не могут делать, то они принимают «напряженные» формы, становятся вычурными, чужеродными, напыщенными и превращаются в то, что шизофренические пациенты называют «магическими словами» (Machtworter). Возникает не что иное, как примитивная магия слов, производящая незаслуженное впечатление, потому что все вычурное вое- ;' принимается как особенно глубокое и значительное. Поучительнейшие примеры такого рода можно почерпнуть как раз в гностицизме. Неологизмы имеют тенденцию не только утверждать свою полную независимость, но и подменять собой то, реальность чего они изначально были призваны выражать.