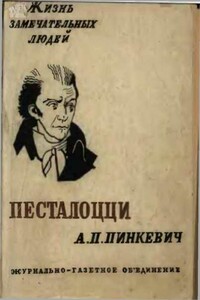Мой Чернобыль | страница 12
Он требовал неукоснительного выполнения многих и многих правил и даже почти законов экспериментальной физики. Записывать все и записывать аккуратно, даже то, что сейчас кажется неважным. Оканчивать опыт тем же измерением, с которого начал, чтобы убедиться, что ничего не изменилось и не сломалось и т.д., и т.п. А главное, продумывать и рассчитывать эксперимент до мелочей, никогда не облучаться зря, но и не паниковать, если попадешь в поля радиации.
Однажды я набрался нахальства и спросил, у кого учился он сам. Спивак долго объяснял мне, что надо знать историю физики и потом очень гордо сказал – "Я учился у академика Иоффе!" Я, не подумав, задал следующий вопрос. Спросил – "А Иоффе у кого учился?" Руководитель мой даже не стал прыгать, а просто прорычал – "У Рентгена, у того самого Рентгена!!!"
– "Тогда, что Вы волнуетесь, Петр Ефимович?" – пролепетал я. "Просто считайте, что на мне эта цепочка оборвалась".
Знать бы мне тогда, как часто будем мы упоминать по делу и не по делу имя великого Рентгена. Что и во сне мне будут представляться разрушенные помещения, и голос дозиметриста выкрикивающий – "Один рентген, пять, осторожнее! Сорок рентген! Дальше не идем!"[2]
Во-вторых (для тех, кто не забыл, что было и во-первых), у меня были хорошие ученики. Вместе с друзьями мы организовали вечернюю школу, в которой занимались старшеклассники из обычных школ, те, кто был особенно способен к физике или математике, или думал, что он особенно способен к этим наукам. Мои дорогие ученики, многие из которых стали кандидатами и докторами наук, тут же принялись в свою очередь обучать меня физике, при этом достаточно жестким способом. Они доставали всеми возможными путями трудные задачи и с удовольствием наблюдали за моими конвульсиями у доски при попытках их решить. В конце концов, я стал довольно сносно и довольно быстро ориентироваться в вопросах общей физики. Это очень пригодилось. Особенно, когда в темных развалинах 4-го блока требовалось принять быстрое решение, не имея под рукой ничего, кроме пластиковой одежды, фонаря и дозиметра.
Итак, я работал в Курчатовском институте и руководил маленькой группой сотрудников. Мы взбунтовались и ушли от прежнего начальника, стремясь сделать новый нейтринный детектор. Никакого отношения к проектированию, строительству или управлению реакторами мы не имели. И тут грянул Чернобыль.
5. Моя мама
Я познакомился со своей мамой, когда мне было 27 лет. Во время войны она разошлась с отцом и уехала куда-то очень далеко. Мне было тогда три года и о маме остались не воспоминания, а ощущения – тепла и чудесного запаха от ее волос. И так уж сложилась дальнейшая моя и мамина жизнь, что видеться с нею я начал взрослым, уже сложившимся человеком. Мы с женой приезжали к ней в дом, и визиты становились все чаще и чаще, поскольку дом этот был необыкновенно интересным. Кто только ни собирался сюда к вечернему чаю. Искусствоведы (мамин нынешний супруг был крупнейшим в России специалистом по искусству Индии), священнослужители (мама была очень религиозна), удавшиеся и не слишком удавшиеся писатели, знаменитые врачи и люди, выдававшие себя за врачей, известные фокусники и жаждущие аудитории и славы телепаты. Эту весьма разношерстную кампанию объединяло одно – мамино обаяние. Написав это слово "обаяние" я подумал, что оно лишь в слабой степени передает то сильнейшее притяжение, которое исходило от этой пожилой, но еще очень внешне привлекательной женщины.