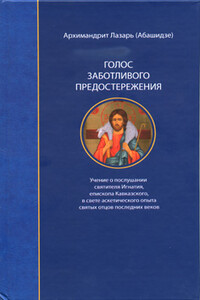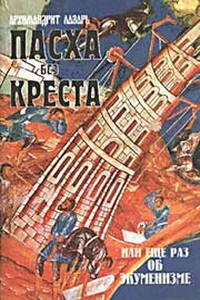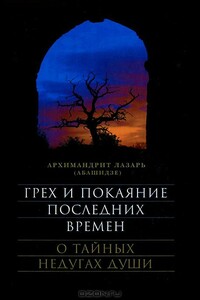Мучение любви. Келейные записи | страница 82
Итак, все должно создаваться иначе: во-первых, цель – не строить и заселять вновь отстроенные здания, а разжигать яркий очаг веры, возле которого могут собраться уставшие, ищущие духовного тепла и света озябшие путники. Начинать разжигать этот очаг надо именно со своего собственного сердца, и на это уйдут годы. Учительствовать, если благословят, опять же надо крайне осторожно и как бы нЕхотя, с окаявАнием себя, лишь из страха дать отчет за умолчанное слово. Сами братия ни в коем случае не должны думать, что настоятельство – честь: это лишь труднейшее послушание. Главное, необходимо понимать, что через старшего в обители Сам Бог наставляет и ведет братию и что многие духовные истины открывает ему Господь именно ради братии и ради ее веры в это таинство духовной иерархии.
И в том, что монастыри превращаются в мирские организации, что в настоятеле хотят ценить и признавать только мирские качества и не видят духовного таинства,– во всем этом опять проявляется маловерие нашего времени. Люди разучились верить, поэтому не умеют и доверять. Верят только тому, что ощутимо, осязаемо, верят «крепкому слову», жесткому движению, сочувствуют грандиозному размаху земных предприятий, верят крепким стенам, прочной мебели, надежной технике, верят деятельному и живому характеру начальников, верят крепкой руке и грозному взгляду, но весьма не доверяют, когда им ненавязчиво, без самоуверенности кто-то скромно укажет на учение святых отцов, на их собственные духовные ошибки, постарается отвлечь их внимание от пристрастий земных. Да, духовные отношения невозможно спланировать умом и затем воплотить их в жизнь: никакие искусственные усилия не заложат этого духовного фундамента. В лучшем случае при определенных талантах настоятеля монастырь может быть сорганизован как налаженная трудовая артель с четким распорядком жизни.
Опять – только вера, живая вера может стать условием для правильных взаимоотношений, и всякое маловерие здесь будет действовать как капля едкой кислоты – разъедать, разлагать, оставлять дыры на нежной ткани монастырской жизни. И то надо, видимо, признать, что теперь старший в монастыре, то есть настоятель, так называемый «игумен», пусть даже архимандрит, «высокопреподобный отец», «батюшка» и тому подобное – на самом деле только лишь старший брат, а не «отец»! Старший брат, который по причине осиротелости братий вынужден пещись о них, хлопотать, заботиться о том о сем, пытаясь как можно благочиннее «свести концы с концами» и вообще стараясь возместить, насколько это удастся, отсутствие родителя. Да, он несет скорбь и заботы отца, и труд его немал, но он не должен забывать, что сам он всего лишь неумелое дитя, «зеленый мальчишка». Если б не Господь…