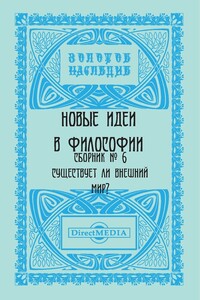Новые идеи в философии. Сборник номер 11 | страница 47
Сначала мы вводим три независимых основных понятия времени, пространства и массы как объекты опыта, показав, какими конкретными чувственными данными опыта определяются, согласно нашему представлению, времена, массы и пространственные величины. Что касается масс, то мы оставляем за собою право рядом с чувственно воспринимаемыми массами ввести при помощи гипотезы и скрытые массы. Затем мы сопоставляем отношения, которые существуют всегда между упомянутыми конкретными данными опыта и которые мы рассматриваем как существенные для основных понятий. Естественно, что мы основные понятия сначала связываем по два. Отношения, которые касаются только пространства и времени, мы можем назвать кинематикой. Между одной массой и одним временем нет никакой связи. Между массой и пространством существует целый ряд важных установленных на опыте отношений. Между массами природы мы констатируем известные, чисто пространственные связи, заключающаяся в том, что некоторым из них известные положения и известные изменения положения приписываются как возможные, а другим из них – как невозможные с самого начала и на все времена, т. е., следовательно, независимо от времени. Далее, мы можем об этих связях вообще сказать, что они касаются только положения масс относительно друг друга и – далее – что они удовлетворяют известным условиям непрерывности, находящим свое математическое выражение в том, что сами связи всегда могут быть выражены в однородных линейных уравнениях между первыми дифференциалами тех величин, которыми мы обозначили положение масс. Подробное изучение связей, существующих между определенными материальными системами, есть дело не механики, а экспериментальной физики. Единственными признаками, по которым различаются между собой различные материальные системы природы, являются, согласно нашему представлению, связи, существующие между их массами. До сих пор мы связали между собой только два основных понятия. Теперь обратимся к механике в тесном смысле, в которой соединены все три основных понятия. Их общая, известная из опыта связь, может быть обобщена в одном единственном законе, представляющем весьма тесную аналогию с обыкновенным законом инерции. Пользуясь нашей терминологией, мы можем выразить его в следующем утверждении: всякое естественное движение самостоятельной материальной системы заключается в том, что система движется по кратчайшему пути с постоянной скоростью. Это утверждение становится понятным, конечно, только после того, как надлежащим образом выяснены употребленные здесь математические термины, но смысл его может быть изложен и на обыкновенном языке механики. Положение это просто соединяет в одно утверждение обыкновенный принцип инерции и гауссовский принцип наименьшего принуждения. В нем говорится, следовательно, что если бы связи системы могли быть на момент разрушены, то массы ее рассеялись бы в прямолинейном и равномерном движении, но так как такое нарушение невозможно, то они, по меньшей мере, приближаются, насколько возможно, к этому движению. Этот основной закон в нашей картине мира есть не только первый опытный принцип механики, но и последний. Из него и допущенной нами гипотезы скрытых масс и закономерных связей мы чисто дедуктивным путем выводим все остальное содержание механики. Вокруг него мы группируем остальные общие принципы в зависимости от их родства с ним и между собой, как последствия или части его. Мы пытаемся показать, что при такой системе содержание нашей науки оказывается не менее богатым и многообразным, чем содержание механики, исходящей из четырех основных представлений, во всяком случае, не менее богатым и многообразным, чем этого требует изображение природы. Впрочем, и здесь вскоре оказывается целесообразным ввести понятие силы. Но сила не является здесь чем-то независимым от нас, нам чуждым, а математической вспомогательной конструкцией, свойства которой находятся в полной зависимости от нас и в которой поэтому не может быть ничего загадочного для нас. Согласно основному закону, везде, где два тела принадлежат к одной и той же системе, движение одного из них определяется движением другого. Понятие же силы возникает от того, что мы по определенным известным нам основаниям находим целесообразным эту зависимость одного движения от другого разложить на две стадии и сказать себе: движение одного тела определяет сначала некоторую силу и только эта последняя определяет затем движение второго тела. Таким образом всякая сила становится, правда, всегда причиной некоторого движения, но на том же основании она вместе с тем является всегда также и следствием некоторого движения; точнее говоря, она становится лишь мыслимым соединительным звеном между двумя движениями. Ясно, что при таком воззрении общие свойства сил должны вытекать с логической необходимостью из основного закона, и когда мы видим, что эти свойства подтверждаются на опыте, то это нас ничуть не удивляет, потому что иначе нам пришлось бы усомниться в нашем основном законе. Подобным же образом дело обстоит с понятием энергии и со всеми другими вспомогательными конструкциями, которые приходится вводить.