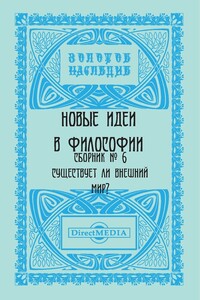Новые идеи в философии. Сборник номер 11 | страница 39
Одним словом, как в отношении сил, так и в отношении неподвижных связей наша система принципов охватывает, правда, все естественные движения, но вместе с тем и очень много таких движений, которых естественными назвать нельзя. Система, которая исключала бы эти последние, или, по крайней мере, часть их, отражала бы больше действительных отношений вещей и в этом смысле была бы, следовательно, целесообразнее. Но мы обязаны оценивать целесообразность нашей картины в другом еще направлении. Проста ли также наша картина? Экономна ли она в отношении несущественных черт, т. е. таких черт, которые нами произвольно, хотя это было, правда, и допустимо, были присоединены к существенным чертам природы? Наши сомнения при ответе на этот вопрос вновь связаны с понятием силы. Нельзя отрицать того, что в очень многих случаях силы, вводимые нашей механикой для решения физических вопросов, представляют собой не что иное, как голые выдумки, теряющие всякое значение там, где дело идет об изображении действительных фактов. В простых случаях, обсуждением которых первоначально занималась механика, этого, конечно, не бывает. Тяжесть камня, сила руки представляются столь же действительными, столь же доступными непосредственному восприятию, как и вызванные ими движения. Но стоит только перейти к движениям звезд, чтобы получить уже нечто другое. Здесь силы никогда не были предметом непосредственного опыта: весь прежний наш опыт относился только к кажущемуся месту звезд. Мы не надеемся на восприятие этих сил и в будущем, а будущий опыт, которого мы ожидаем, касается опятьтаки только положения светящихся точек на небе, какими нам представляются звезды. Только в случаях вывода будущего опыта из прошлого приходится на время прибегать к силам тяготения как к вспомогательным величинам, которые вскоре опять исчезают из вычислений. Так в общем обстоит дело при изучении молекулярных, химических сил, многих электрических и магнитных воздействий. И когда мы после зрелого опыта возвращаемся к простым силам, в существовании которых мы ни малейшим образом не сомневались, мы убеждаемся в том, что эти с полной уверенностью воспринятые нами силы, во всяком случае, не были действительными. Стремление каждого тела к земле – стремление, которое можно осязать, казалось, руками, – на самом деле – так учит нас более зрелая механика – как таковое, не действительно: оно есть результат необъятного числа действительных сил, которыми атомы тела притягиваются ко всем атомам мира, и только представляется нами, как отдельная сила. И здесь, следовательно, действительные силы никогда не были предметом прошлого опыта, и мы не надеемся констатировать их в опытах будущего. Только в процессе, в котором мы выводим будущий опыт из прошлого, эти силы смутно появляются, чтобы вновь исчезнуть. Но если далее мы и сами привносим в природу эти силы, то отсюда далеко еще не следует, что введение их бесцельно. Нам заранее было ясно то, что трудно будет совершенно обойтись в наших образах без несущественных отношений побочного характера. Одного мы могли только требовать: сведения числа этих отношений до минимума, разумной осторожности в пользовании ими. Но можно ли утверждать, что физика может всегда оказаться экономной в этом направлении? Не была ли она, напротив, вынуждена наполнить мир без меры самыми различными силами, которые сами никогда нам не бывают даны в явлениях, такими даже силами, которые вообще оказывают какое-нибудь действие лишь в весьма исключительных случаях? Мы видим на столе кусок железа, лежащий на нем в полном покое. Мы допускаем поэтому, что в наличности нет никаких причин движения, никаких сил. Но физика, построенная на основе нашей механики и определяемая этой основой, учит нас другому. Каждый атом железа действием силы тяготения притягивается к каждому другому атому вселенной. Но каждый атом железа вместе с тем магнитен, а потому связан с каждым другим магнитным атомом вселенной новыми силами. Но тела вселенной наполнены также динамическим электричеством и это последнее развивает новые силы, действием которых притягивается каждый отдельный атом железа. И поскольку части железа сами содержат электричество, нам приходится здесь принять в соображение опять другие силы и рядом с ними и молекулярные силы различного рода. Некоторые из этих сил не малы; если бы только часть их действовала, то одной ее было бы достаточно для того, чтоб разорвать железо на куски. На самом же деле все силы так друг друга уравновешивают, что действие их равно нулю, что, несмотря на тысячу существующих причин движения, никакого движения нет, и железо остается в покое. Познакомьте с этими представлениями человека, беспристрастно и самостоятельно мыслящего, кто вам поверит? Кого вы убедите в том, что вы говорите о действительных вещах, а не о созданиях слишком богатой фантазии? Но мы сами задумаемся над вопросом, действительно ли мы описали и изобразили покой железа и его частей простейшим образом. Возможно ли вообще избегнуть этого усложнения, сомнительно; но не сомнительно то, что система механики, которой удастся избегнуть или исключить это усложнение, более проста и в этом умысле более целесообразна, чем описанная здесь система, которая не только допускает такие представления, но прямо их навязывает.