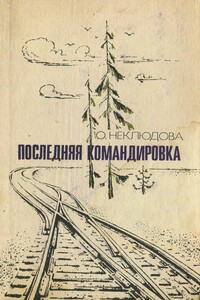_201.DOCX | страница 43
Сижу я как-то под вечер в мастерской Миши Вайнштейна и жду. То ли сына, то ли самого Мишу, когда кончит он свои дела, – не помню. Миша что-то мастерит, кажется, подрамник, а я сижу и гляжу. И жду.
Солнце посылает косые лучи, похожие на лучи прожектора, а в них пляшут, кружат, суетятся обитатели воздуха мастерской, обнаруживая свою, не касающуюся нас, жизнь. Только солнце и может позволить себе роскошь этого представления в доказательство того, что то, что мы высокомерно называем словом «пыль», совсем не то, что мы думаем, не то, что мы сметаем, и уже совсем не то, что презираем.
Сомнительная философия, говорит Миша, не вынимая изо рта пучка гвоздей. Но что правда – то правда, говорит,… занятие это завораживающее… в детстве, в школе… училка из класса… того… иди, говорит, в коридор, в коридор, бездельник. Будто… в том коридоре… кто-то стал тружеником. (Миша вынул последний гвоздь и вытер губы).
Мне стало безумно смешно. На мой беспричинный смех Миша удивленно пожал плечами, улыбнулся, отвернулся, и в этот момент в мастерскую приоткрылась дверь. Кто-то просунул голову, оглянулся по-птичьи налево-направо, ища глазами кого-то (не «кого-то», а Мишу, разумеется), и исчез так же внезапно, как появился.
Миша позвал:
– То-ош…
Открыл дверь в коридор и крикнул вдогонку:
– Тоша, зайди.
Сделал шаг, чтобы догнать, – нет, бесполезно. Тоша не зайдет. Кто другой зашел бы, а Тоша – нет. Не зайдет.
Ладно. Потом.
Что-то изменилось. Миша больше не возится с подрамником, не стучит молотком, а рассеяно сворачивает в рулоны серую бумагу и ставит в угол.
– Ты подожди, я схожу, посмотрю. Сейчас вернусь.
Вернулся. Все нормально, говорит. Тоше кобальт был нужен. Уже раздобыл. Все в порядке.
И все рано, что-то изменилось. Стало беспокойно, и непонятно отчего.
Лицо. А за ним ничего, кроме имени Тоша. (Да и не имя это, а что-то круглое и уменьшенное, словно пуговица на детской одежде).
И даже не знаю, кто это. (Миша отвечает коротко: Тоша. Художник). Очки. Круглые, как иллюминаторы. А за ними… вот, то, что за ними, и осталось в мастерской вместе с очками. Как в печке тяга. Осталось и поселилось в воздухе сквозняком.
И солнце спряталось.
И мы ушли из мастерской, словно были там по его, солнцу, расписанию.
Сколько лет прошло?
Много лет прошло. Несколько лет, густо наполненных печалью. Миши уже не было с нами. Однажды я увидела Тошу – сперва очки, а затем Тошу – в вестибюле здания мастерских. Я уже знала: это художник Анатолий Лымарев. Знала по портрету Миши. Тоша (все равно Тоша. Никто его иначе не называл ни тогда, ни после) сидел один возле будки дежурных, и было видно, что скверная погода за его очками овладела им нынче вполне.