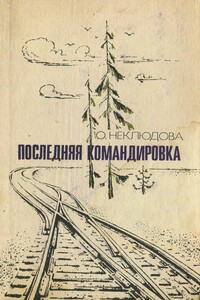_201.DOCX | страница 41
Ничего себе – «сгодится». Чего только там нет.
А Миша трется вокруг плиты на кухне, ему от той «торбы» – ничего, ни-ни.
– Супу дашь? Урра! Мне снова лучше всех! Мне суп дали!
Ну, что за свойство! Вокруг него никогда не бывает обыденности. Даже тощая куриная нога притворилась роскошью натюрморта. Золотистое вино в бокале подрагивает и искушает. А Миша хохочет, не замечая соблазнов.
– На кого я похож? На Генриха? На Ричарда?
Берет надвинул на ухо.
– На Рембрандта?
Перед уходом:
– А шалахмунэс (угощение с собой)? А шалахмунэс детям?
Шалахмунэс – это святое. Никто не уходит без него. И мой выросший взрослый сын кричит мне вдогонку, когда я ухожу:
– Мама, шалахмунэс!
По сей день. Почти.
Такое длинное, такое путаное путешествие по жизни. Перечитала – вспомнила: где мы сына моего оставили? Неужели на балконе? Или улегся в постель? В Седневе оставили, в Доме творчества.
Мы с Мишей зашли в комнату поглядеть на Леньку (сейчас пойдем искать Нину с детьми), а тот с любопытством смотрит на Мишу. Вроде видит его впервые, а Миша ведет себя, как старый знакомый. Я говорю:
– Дядя Миша – папа Вовы и Даши Вайнштейн.
– И тети Нины? – спрашивает догадливый Леня. Миша хохочет громко, заливисто:
– А ведь прав, подлец!
Нина, Ниночка. Вот она стоит рядом в своей широченной юбке с оборками и никогда никуда не торопится. И загадочно улыбается глазами. Она не знает, что такое циферблат. Она не решает проблемы. Они либо разрешаются сами, либо висят – висят, пока не усохнут. Она ни в чем не виновата: она оккупирована. Всю ее территорию заняла женственность, не оставив места ни для чего другого. Когда она ходит, она все равно стоит.
Она знает, что мы смотрим на нее глазами Миши и что так будет всегда. И она пример того, что на свете есть вещи, прекраснее понятий вины и правоты.
А пока Миша говорит:
– Пусть Ленька ко мне приходит. По средам. Только без глупостей. Слышишь?
Вспоминаю об этом лишь затем, чтобы признаться: все мы завидовали Лене. И Маша, и я.
У Маши была уловка: она могла сделать вид, что тоже хочет учиться рисованию. У меня же и этого не было.
Год ходил мой сын к Мише – и это было счастливое время его жизни.
...И все все знали и все равно не могли поверить, что это может случиться. Что когда-нибудь этот человек может не прийти, не одарить, не осветить собой.
Как-то вечером, нежданно, прямо из мастерской, приходит и в дверях, не переступая порог:
– Помираю, братцы...
В одной руке Ленины часы – тот забыл их в мастерской, в другой руке – апельсин. Рядом с ним лицо Миши еще отечнее, еще землистее.