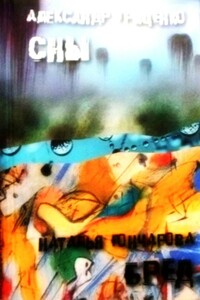_201.DOCX | страница 14
А рядом парнишка лет 5-6 ревет без умолку. Сам спрашивает:
– Ты не знаешь, чего он ревет?
– Знаю. Он не знает, что с этим делать.
– С чем?
– С этим чувством. С тревогой. Видишь лужу? Видишь дерево? Видишь отражение дерева в луже? И он видит. К дереву он уже привык, а к отражению – нет. Может, он впервые его заметил. Это уже другое дерево. Это уже феномен искусства. А с ним никогда не знаешь, что делать. Ты знаешь?
Самуил хохочет. То ли надо мной, то ли на нервной почве.
– Может, искусство, – его душат горловые спазмы, – это и есть безумие, когда не знаешь, что с собой делать, куда девать желания и как перевести их в действия? А может, все проще? Парню лет 5, может, просто у него штаны мокрые? Давай подойдем.
– Ни в коем случае! Не двигайся! Не трогай, ничего не трогай, пусть ревет. А штаны у него сухие.
– Изверг... Давай все-таки, подойдем. Ревет больно громко. Может, ушибся.
– Пройдет. А если то, что я думаю, – ничего не поможет. Он сам себе поможет, когда начнет что-то делать.
– Ну и напридумаешь ты... Ну и наворотишь...
На базаре поет лирник. Голову запрокинул в небо, как на трубе играет, без слов, открытым ртом. Я побоялся оскорбить его звуком падающей монеты и стал ждать. Когда он опустил лицо, я увидел, что он незряч. У него нет глаз. А для того, чтобы петь то, что он пел, не нужно ничего. А для того, чтобы видеть, то, о чем он пел, не нужны глаза. Нужен только талант...
Поле, ветер, песок, ковыль, тоска, воля... Горе.
Мою мать звали Юдифь…
Я боялся поднять на нее глаза.
Ты не поверишь, в первую минуту я подумал: не может быть; не может человек быть так прекрасен.
Мою мать звали Юдифь.
Описывать ее – не мое дело: мама. Со своим голосом, с манерой называть меня полным именем с самого раннего детства, с лицом, которое я увидела и запомнила раньше всех других лиц на свете.
Я помню, как обращался отец к маме, и этими словами подписал он свой рисунок. И дата: 1937 год. Даже если бы он был подписан двадцатью годами позже – это ничего не изменило бы: тот же характерный поворот головы, тот же профиль, та же пластика. И те же его слова. Этот рисунок послужил прообразом будущего живописного воплощения, также исчезнувшего во время оккупации.
А рисунок этот на тоненькой ненадежной бумаге, почти на тетрадном листке, хрупкий и такой ветхий, что страшно в руки взять, сохранился, вероятно, все в той же, чудом уцелевшей в войну папке и хранится по сей день в семейном архиве. А для меня это и отец, и мать – в одном рисунке: хранит он и ее черты, и его руку и голос.