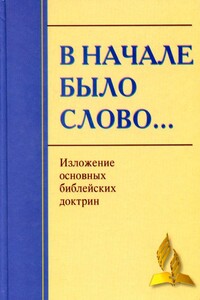Из истории первых веков христианства | страница 48
Впрочем, в более древнюю эпоху дело до этого еще, в счастью, не доходило; мы встречаем тогда несколько смелых, простых людей, которые, хотя и называют себя философами и стараются мыслить философски, но в сущности вовсе не заслуживают этого названия в том смысле, какой мы придаем ему. Древнейшим из этих поборников христианства, которых, как мы уже указывали выше, не совсем правильно называют апологетами, является открытый около 14 лет тому назад Аристид, который сам себя называл философом из Афин. Апология его адресована в императору Антонину Пию, мало энергичному, уже немолодому человеку, который, если и видел когда-либо это произведение, то просто, вероятно, отложил его к прочим бумагам. Если же он и читал его, то уже с первых страниц почувствовал, должно быть, смертельную скуку. На него, как на человека языческого образования, вряд ли могло оказать иное действие это произведение, которое начиналось с обычной полемики против ложных богов и идолов греческого мира: все это император, конечно, уже ранее встречал у философов того времени. Совершенно иначе относимся к этому произведению мы. Для нас оно является драгоценным свидетельством, трогательным, как я сказал, документом по истории этой полемической литературы. В первой полемической части автор всецело находится под властью традиции, он подчас крайне неуклюже высказывает самые обыденные мысли, которые тогда носились в воздухе. Они являются для него чем-то чуждым, воспринятым лишь с внешней стороны, но тем не менее он глубоко убежден в их правильности, потому что они переданы ему, и поэтому он повторяет их, как бы желая, чтоб они лучше запечатлелись в уме читателя, и даже будто проверяя самого себя. Таким образом, несмотря на свое название философа, он здесь является лишь начинающим писателем, и это то как раз и заключает в себе что-то трогательное и делает его для нас гораздо интереснее многих вполне опытных авторов последующего времени. Апология его начинается совершенно по образцу стоиков: «Меня, о цезарь, произвело на свет провидение Божие. И когда я наблюдал небо и землю и море, солнце, луну и все прочее, я удивился порядку, господствующему всюду. И понял я, что этот мир и все в нем двигается необходимостью, и увидел я, что тот, кто приводит все это в движение и кто господствует в мире, есть Бог, невидимый в мире и скрытый миром; ибо все, что двигает, сильнее того, что находится во власти». Проникновение в эти первоосновы Аристид отвергает, так как Бог непостижим ни для кого: «Я же говорю, что Бог никем не произведен на свет, никем не сделан, что он никем не объемлем, но сам объемлет все, что он без начала и конца, вечный, бессмертный, совершенный и непостижимый. Совершенный же… значит, что в нем нет никаких недостатков, что он ни в чем не нуждается, а в нем нуждается все. А что я сказал, что он не имеет начала, означает, что все имеющее начало имеет также и конец, а что имеет конец, то может быть разгадано. Он не имеет имени, ибо все имеющее имя родственно творению. Он не имеет ни образа, ни членов, ибо имеющий это соответствует сотворенным вещам». И в том же духе автор продолжает далее, существо Божие характеризуется согласно древней манере, чисто отрицательными свойствами. Далее, автор делит людей на три рода, смотря по религии: на идолопоклонников, иудеев и христиан. Он показывает, как все язычники впали в заблуждение, и те, которые поклоняются стихиям и небесным светилам, и те, которые чтут поэтических богов греков; при этом излагает он все это крайне утомительно, основной мотив всегда остается один и тот же, именно, что эти предметы почитания либо изменчивы, либо подчинены определенным законам, либо, наконец; не в состоянии сами себе помочь. Так напр., про солнце он говорить, что оно не может быть богом потому, что оно вынуждено двигаться по известному пути, имеет определенные обязанности, совершенно лишено собственной воли, и что путь его может быть вычислен заранее. С особенной резкостью, подобно иудейским писателям. Аристид нападает затем на высокомерных греков, которые воображают себя мудрецами, а сами хуже варваров, поклоняющихся солнцу. Мифы и религиозные представления греков разбираются по определенной схеме, и апологет показывает своим противникам, что такая грешная компания, как олимпийские боги, способна своим дурным примером уничтожить всякую нравственность и добродетель: упрек, построенный вполне по греческому образцу. Особенно тщательно автор копается в грехах Зевса и развертывает один из тех длинных листов Лепорелло, на которых записаны все прелюбодеяния царя богов. Для характеристики возьмем, напр., отрывов об Аполлоне и Артемиде: «А после этого они приводят другого бога и называют его Аполлоном. Про него говорят они, что он завистлив и изменчив и то ходит с луком и колчаном, то с кифарой и плектроном, и он делает людям предсказания, чтобы получить от них награду. А нуждается ли этот бог в награде? Позорно, что все это находят в боге. – И после него приводят он Артемиду, богиню, сестру Аполлона, и говорят, что она была охотницей и носила лук и стрелы и с собаками скиталась по горам, гоняясь за оленями или дикими кабанами. Позорно, что молодая девушка одна скитается по горам и охотится на зверей. И поэтому невозможно, чтоб Артемида была богиней». И то же самое повторяется о каждом боге; я думаю, мы получили достаточное представление о монотонности и отсутствии оригинальности. Та-же слабость отмечает и дальнейшую критику египетского культа животных, с которой, как с необходимой принадлежностью этой литературы, мы уже познакомились ранее.