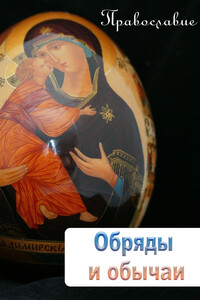Из истории первых веков христианства | страница 29
Нельзя отрицать известного внешнего сходства между иудейской сивиллой и римским поэтом. Сходство это, однако, только кажущееся; в произведении Виргилия содержится слишком много чисто языческих или стоических мотивов, а изображения блаженных мирных времен, так же как, напр., представления об адских муках, встречаются у самых различных народов, так что говорить здесь о заимствовании не приходится. Впрочем, христиане были об этом иного мнения, им, с Лактанцием во главе, принадлежит неоспоримая заслуга совершенно ложного толкования четвертой эклоги Виргилия: указывая на сходство этого стихотворения с иудейской сивиллой, они говорили, что в нем заключается пророчество о пришествии спасителя. Это было лишь прямым следствием неверного взгляда на самое сивиллу. Язычница предсказала великие деяния Бога, единого, от века сущего владыки неба и земли: по воле Божией слепые очи её на мгновение прозрели. Anima candida Виргилия, казалось, также была освещена лучем божественной мудрости, и величайший римский поэт подвергся таким образом своего рода канонизации.
Сивиллу ожидали, однако, и еще новые почести. Прежде всего, Виргилий еще раз прибег в ней в своей Энеиде: он заставляет обитательницу кумейской пещеры сопровождать благочестивого героя своей поэмы в подземное царство Плутона. Август также воспользовался помощью пророчицы. Когда в 17 году он приступил к устройству вековых игр, он поставил их в связь с одним древним сивиллиным изречением, подвергнутым некоторому перетолкованию. К этом изречении была изложена вся программа празднества. Гимн был написан Горацием, в нем он покорно говорит об угрозах сивиллиных стихов и почтительно вспоминает о произведениях своего умершего современника, Виргилия, об Энеиде и четвертой эклоге.
Вернемся, однако, к иудейской поэзии сивилл, которой в скором времени суждено было превратиться в христианскую. Выше мы уже видели, что, чем сильнее налегала длань Рима на Иудею, тем ожесточеннее выражалась ненависть к мировому городу в этой народной поэзии. Сивилла все с большей злобой относится к цезарям, особенно к Нерону, все мрачнее становятся изображения конца мира, а разрушителю святого города Иерусалима, Титу, с ненавистью талмуда приписывается самый ужасный конец. В пылу страсти уже нарушается внешняя форма пророчества, еврейский патриот говорит иногда и о прошлых временах, находя там всевозможные тенденциозные истории. Однако, и этому приходит конец; с течением времени и иудейская сивилла подчиняется всеобщему рабству и, в конце концов, даже о настроенных враждебно к евреям императорах говорит с верноподданнической покорностью. Тогда, около середины II века по Р. Хр., выступает со своими песнями