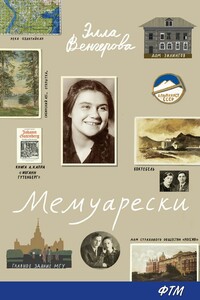В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 98
И вот мать долго и дотошно совещается с Филиппом, как бы и вещь нужную (и притом такую, что невесте в любовь) взять, и с деньгами обойтись. Это не торг, а какое-то мирное обсуждение торгового договора. Филипп спустил цену с того, с другого товару, но дальше не идет: «Не могу, Настасья Васильевна. Простыня голландская, тонины княжеской, строчка – бисер. Самому дороже». Матери ни за что не хочется упустить простыни. Она знает, что Филипп прав, и не прекословит ему. Но денег нет. Тогда Филипп сам, уложив все в короб, а простыню оставив на столе, хоть мама уже отказалась от нее, сам молвит ей: «Да за чем же дело стало? Подожду я». – «А я скоро и не отдам и не обещаюсь». – «А я скоро и не спрошу. На что мне скоро-то?» Это говорится с таким радушием, с таким пониманием маминых дел и забот, с такою улыбкою, широкою в широкую же бороду, что я, присутствующий при торге, влюбляюсь в Филиппа и с удивлением смотрю на смущенную мать (ни она, ни отец никогда не любили брать в долг), как же она не понимает, что Филиппу скоро ничего не нужно? Простыня переходит в приданое.
Филипп нигде не записывает долгов, он ходит с коробом только по знакомым купеческим семьям, и с мамой у него вечные постоянные[95] счеты, но они всегда – друзья, а отец и не подозревает, какие сложные торговые договоры приходится заключать маме, чтоб приданое само собой улеглось в большие кованые сундуки Лизины, Варины, Дунины, а там еще в будущем – Манины, Танины. Не подозревают этого и эти самые Лизы, Вари, Дуни, Мани, Тани. Им дело представляется очень просто: отец дал денег на приданое, и надо его купить, и даже не понимают, зачем надо возиться с каким-то мужиком Филиппом, заботиться, чтобы его напоили и накормили, вместо того чтобы поехать к Сосипатру Сидорову и сразу купить все, что нужно.
Работа мамы здесь была вполне сизифова. Но сизифова она была и во всем другом. Она не могла не вести то огромное хозяйство, о котором я дал краткое представление. Если б в отцовом доме завелся всюду купленный кусок, а домашний умалился, что было бы очень выгодно для маминой свободы и что было бы нужно для ее здоровья, то отцова достатка не стало бы на семью в тридцать едоков. Добытчик был он один. И когда его сил не стало хватать, силами старших сыновей дело развалилось, и на старости он остался без куска хлеба. А дети попросту ушли от него, а в их числе был адвокат, инженер (оба холостые), две учительницы, и он остался с малыми детьми на попечении матери, больной, раздавленный разореньем и этим уходом. Ни одна из замужних дочерей, выданных за богатых людей, не помогла ему ни копейкой. Пасынок-адвокат даже пытался было начать после его смерти процесс против матери, требуя выдела имущества (которого осталось на грош) в пользу двух сестер-учительниц. И только старый адвокат, ведший дела отца и знавший, что он отдал кредиторам все до копейки и остался нищ, пристыдил его, угрожая, что на суде вскроет и представит ярко всю историю купеческого короля Лира, оставленного не двумя, а семью дочерями и четырьмя сыновьями, из коих младший – молодой блюститель правосудия, помощник знаменитого Плевако. Брат Михаил не рискнул услышать на суде такой истории и отказался от мысли отнять у мачехи последнюю отцову полушку.