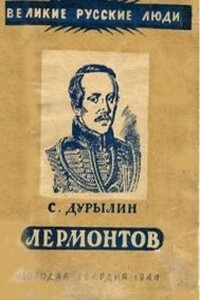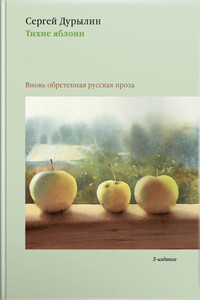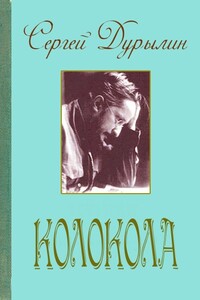В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 173
Мы громко изъявляем неудовольствие на «бабищу». Мы чуем в этой докучной присказке какую-то насмешку над сказкой и кричим:
– Няня! Скажи сказку! Этих не надо!
«Этих» – значит таких вот присказок, потому что были и другие – про царя и пр. Мы требуем настоящую сказку.
Любимая была про медведя. Мужик обманул медведя, отрубил у него ногу и унес к себе в избу. Медведь идет, хромая, за ногой к мужику, вместо ноги у него дубовая коротышка.
– Топ-топ-перетоп, – корявым медвежьим голосом изображает няня медвежий ход.
У мужика в избушке огонь горит, он ногу медвежью коптит, а Топтыгин «топ-топ-перетоп»: хромает, тяжелый, косматый, на деревяшке и вот-вот грозно застучит лапой в дверь к мужику:
– Где моя нога? Отдай мою ноженьку!
Я замирал сердцем, слушая медвежий топ, и жутко и сладостно от этой жути – вот-вот войдет медведь и спросит в сумраке:
– А где моя ноженька?
Удивительно, я с этой сказки почувствовал к медведю особое почтение – и на всю жизнь.
Но куда страшнее и жутче было про Бабу-ягу.
Обычная сказка – русский деревенский мальчонка Лутонюшка, перехитривший Бабу-ягу, – была в няниных устах совсем не сказкой, хорошо нам известной и издавна любимой, а была повестью о действительном, бывалом и таком возможном, что вот-вот могло случиться с нами, купеческими детьми, в Плетешках.
Нам стоило обернуться к окну, чтоб увидать ее.
Окно выходило в узкий закоулок нашего сада, за ним был опушенный снегом забор, за забором – чужой сад, занесенный снежными буграми, а за бугром старый дом, а в нем – видно было в окно – топилась русская печь. Ее широкое жерло пылало ярким, бурным пламенем, и какая-то горбатая старуха, в черном шлыке, возилась с ухватами, ввергая в горячий пламень черные горшки и котлы.
Да какое же могло быть сомненье: вот они, эти огни, вот эти котлы за окном. Мы жались от страха друг к другу – и в сердце закрадывалось невольное опасение: Лутонюшка-то перехитрил Бабу-ягу и не попал в горластую печь с пылающим жаром, так он был молодец, славный мальчик, – а я? а мы?
Няня никогда не уверяла, но и не разуверяла нас в том, что старуха в шлыке не Баба-яга, а стряпуха, почему-то в этот сумеречный час всегда топившая русскую печь, и что горшки, что метала она в пламя, не с ягиной снедью, не с человечинкой, а с грешневой кашей и со щами, – и сказка о Лутоне превращалась для нас в повесть о том, что было с ним, крестьянским мальчиком, а может быть, и с нами, купеческими детьми.