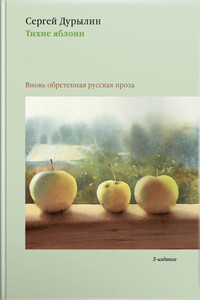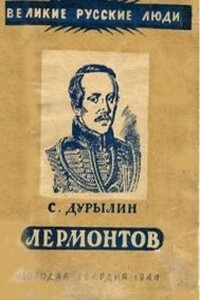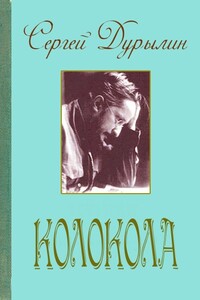В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 144
Первенцем моей матери от отца был брат мой Коля. В семье было три Николая: отец, Николай Зиновеевич, старший его сын от первой жены, Николай Николаевич, и старший же сын от моей мамы, тоже Николай Николаевич, которому первый Николай Николаевич приходился крестным, а по летам годился бы в отцы.
В год моего рождения отцу было 54 года, матери – 34.
Я люблю свое имя, и даже когда прибегал, писательствуя, к псевдонимам, то имя всегда сохранял свое, настоящее.
Моя тетка, единственная материна сестра, Марья Васильевна, сказывала мне, будто имя Сергей – в память преподобного Сергия Радонежского (25 сентября) – мама дала мне потому, что, ожидая ребенка, видела во сне седенького старичка в схиме и Преподобный упредил ее, что у нее будет сын и должно быть ему Сергием. Может быть, и так. От матери я никогда не слыхал, почему я – Сергей. Но у меня есть догадка, в которой, кажется, я не ошибаюсь. За первого своего мужа, Сергея Сергеевича Калашникова, – как я уже говорил – мама вышла в ранней молодости и по сильной, преодолевшей многие препятствия любви.<…>
Ни в отцовом, ни в материном роде Сергиев не было. Дать это имя было тем радостнее, что Радонежский угодник одинаково глубоко чтился и матерью, и отцом, как и всеми в тогдашней Москве. Едва мне минуло 5 лет, меня уже повезли на поклонение по мощам и «выменяли» мне в Лавре икону моего ангела. На обороте кипарисной деки мама тогда написала: «18…[143]года сентября 22 мы были съ Сережей первый разъ у Преподобного. Сереже было 5 леть. Онъ выменялъ»[144]. Она и теперь со мною. И в крестные мне мама взяла человека, которого любила больше всех на свете, – свою мать, Надежду Николаевну Кутанову. Крестным моим был второй сын отца, Александр Николаевич.
Судя по тому, что я родился здоров и крепок, время было еще теплое, а церковь в двух шагах – нужно думать, что крестили меня в церкви, в той самой, в которой 87 лет перед тем окрещен был сам А. С. Пушкин. Крестил меня протоиерей Иоанн Яковлевич Березкин. Он маму и венчал; ему же суждено было и отпевать ее. Мама не кормила меня сама. Я думаю, что это не потому так было, что она была больна и ей нельзя было кормить, а потому, что таков был тогда обычай в купеческом и дворянском кругу, поддерживавшийся и врачами. Ни одного из своих сыновей мама не кормила сама. Еще задолго до рождения припасали кормилицу. И для Коли, и для меня припасала кормилиц бабка Елена Ивановна Магницкая, которая и принимала нас. Это была сухощавая, высокая старушка, с мягкими и благородными чертами лица, отличавшаяся крайней деликатностью и умелою обходительностью. В строгих, темных платьях, в нитяных, каких-то кружевных перчатках на тонких маленьких руках, с тонкой, дорогой шелковой кружевной косынкой на волосах (такою я ее помню), она была вхожа и любима всюду, где принимала. Это была старушка из Тургенева, а не из Островского, как ожидалось бы по ее профессии. Мы ее любили. Любили и ее запах – старой, драгоценной фарфоровой маркизы, настоявшейся в шкапу рядом со старинными духами и эссенциями в граненых флаконах. К нам в дом езжал и ее сын, служивший, кажется, в государственном банке.