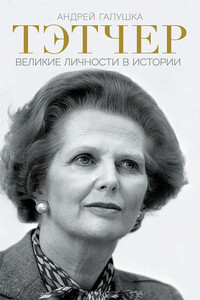В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 113
В нашем доме и роду были иконы от XVII века, от времен московских царей <…> – они перешли с отцом из Калуги, где была его родина, – и, по семейному преданию, «Спас» и «Семь отроков» почитались иконами чудотворными.
Оттуда же, из Калуги, был и деревянный, с иконою старого письма, Животворящий Крест, врезанный по желанию матери в золоченую доску. На исподе креста была надпись, что он сооружен усердием Петра Осипова, родного брата моего деда по отцу. Его же имя сохранилось на серебряном исподе превосходного финифтяного образа Григория Богослова.
Был и еще один примечательный образ – Трех Святителей. По письму его можно было отнести к началу XIX либо к концу XVIII столетия. Свидетельствовал он об уважении предков моих ко «вселенским учителям и святителям», а свидетельством этого уважения было то, что «образ был нарочито заказан иконописцу» и велено было ему по сторонам Трех Святителей приписать святых Зенона, Евдокию и других угодников, тезоименитых деду моему, бабке, прадеду, прабабке и т. д.
Портретов этих родичей моих (кроме деда) не сохранилось, да и вряд ли существовали эти портреты, но лики их тезоименитых святых хорошо указывают, каким родословием дорожили предки мои.
Вспоминаю семейные же иконы у тетушки Елизаветы Зиновеевны – она была старшая сестра отца и, при всей своей бедности, дорожила «Божиим милосердием» в тяжелых ризах, со скатным жемчугом. Величайшим горем, постигшим ее, была гибель этих икон в огне пожара в московском замоскворецком захолустье. Она сама еле спаслась от огня: деревянный домишко вспыхнул, как порох, и развеялся, как прах.
Эти образа, вывезенные из Калуги, хранили безымянную летопись старого купеческого рода, к которому я принадлежу.
Хранил эту летопись и старый помянник, подававшийся за обедню и на панихиду в родительскую субботу: в нем было много десятков имен, писанных уставом, – но ни при одном имени не было гордого «болярина» такого-то, как в дворянских помянниках, но был, сколько помню, один «игумен», один или два «воина», много «младенцев» – и только. Никаких других житейских поименований не оставили по себе мои предки – все они: и те, что молились «Семи отрокам» при Тишайшем царе Алексее Михайловиче, и те, что поклонялись Спасу при грозном его сыне[109], – все были только «рабы Божии» и никаких других прозваний не искали и не оставили по себе.
Раскрываю молитвослов славянской печати, издания Киево-Печерской лавры 1825 года, месяца мая, и читаю на вклеенном листке: «Сип святцы Зиновея Осипова…» Это – молитвослов моего деда, но это же и маленькая летопись. На одном из листков написано: