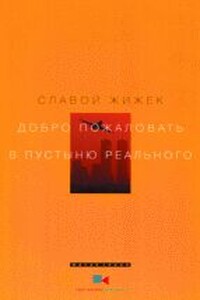Событие. Философское путешествие по концепту | страница 60
В самом деле, когда, согласно Левинасу, первое, что мы предпринимаем при виде ближнего – убиваем его, разве не подразумевается, что это утверждение относится главным образом к отношению Бога к людям, так что заповедь «Не убий» – воззвание к Богу, чтобы он смерил свой гнев. Поскольку еврейское решение этой проблемы основывается на мертвом Боге, Боге, который живет только как «мертвая буква» священных книг и интерпретируемого Закона, со смертью Бога умирает бог реального, бог разрушительной ярости и мести. Заголовок известной книги о холокосте – «Бог умер в Освенциме» – следует переиначить: Бог ожил в Освенциме. В Талмуде есть притча о двух раввинах, спорящих друг с другом на теологическую тему. Проигрывающий спор просит самого Бога явиться и разрешить его, и когда Бог действительно является, второй раввин говорит ему, что его творение уже завершено, так что теперь ему осталось нечего сказать и он должен уйти, что Бог и делает. Бог в Освенциме как будто бы вернулся с ужасающими последствиями. Истинный ужас происходит не когда Бог нас покидает, но когда он подходит к нам слишком близко.
Этот парадокс был недавно точно сформулирован Юргеном Хабермасом: «Секулярные языки, которые просто элиминируют то, что когда-то имело смысл, вызывают недоумение. Как грех, превратившийся просто в вину, утрачивает что-то важное, и отступничество от божественных заповедей, обернувшееся преступлением против человеческих законов»[89]. Именно поэтому секулярно-гуманистические реакции на такие происшествия, как холокост или ГУЛАГ, воспринимаются как недостаточные: чтобы встать на один уровень с этими происшествиями, требуется что-то куда более сильное, что-то вроде устаревшей религиозной темы мирового извращения или катастрофы, в которой сам мир «слетает с петель». Столкнувшись с таким происшествием, как холокост, единственной подходящей реакцией является растерянный вопрос: «Почему не потемнели небеса?» (название известной книги Арно Майора на эту тему). Здесь кроется парадокс теологической значимости холокоста: хотя он обычно рассматривается как наивысший вызов теологии (если есть Бог и если он – благой Бог, то как мог он позволить таким ужасам произойти?), только теология может предоставить рамку, позволяющую нам хоть каким-то образом подойти к масштабам этой катастрофы – фиаско Бога все же фиаско Бога.
Иудаизм предоставляет уникальное решение этой угрозы чрезмерной божественной близости: тогда как в языческих религиях боги были живы, иудейские верующие уже приняли во внимание смерть Бога – и на это указывает множество еврейских священных текстов. Вспомните упоминаемую выше историю о двух раввинах, по сути повелевших Богу замолчать: они спорят о теологии, пока один из них, неспособный разрешить спор, предлагает: «Пусть сами небеса подтвердят, что Закон таков, как утверждаю я!» Голос с небес соглашается с воззвавшим, но тогда встает второй раввин и провозглашает, что даже голос с небес не следует слушать, «ибо Ты, о Господь, давным-давно написал в законе, данном нам на горе Синай: „следуй большинству“». С этим соглашается сам Бог: со словами «Мои дети меня победили! Мои дети меня победили!» он уходит. Подобная история есть также в Вавилонском Талмуде (Бава Мециа 59b), но здесь она принимает ницшеанский поворот: раби Натан спрашивает пророка Элиагу: «Что сделал Всевышний в тот момент?» Элиагу отвечает: «Он засмеялся [от радости], говоря „мои дети меня победили, мои дети меня победили“». В этой истории замечателен не только божественный смех, замещающий печальную жалобу, но и то, как Мудрецы (конечно же, олицетворяющие собой большого Другого, символический порядок) выигрывают спор против Бога: даже сам Бог, Абсолютный субъект, смещается по отношению к большому Другому, так что, когда его запреты записаны, он больше не может их менять. Таким образом, мы можем представить, почему Бог реагирует на свое поражение радостным смехом: Мудрецы выучили урок, что Бог мертв и что Истина заключается в мертвой букве закона, вне его контроля. Другими словами, по завершении акта творения Бог теряет даже право вмешаться в то, как люди понимают его закон.