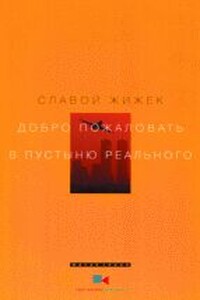Событие. Философское путешествие по концепту | страница 57
Действительно, как писал поэт-символист девятнадцатого века Малларме, поэзия пишет о «ce seul objet dont le Néant s’honore» («той единственной вещи, в которой славит себя Ничто»). Шекспир более точен и описывает триаду: безумец видит чертей повсюду (принимает куст за медведя), влюбленный видит возвышенную красоту в самых обыкновенных чертах лица, поэт «воздушным теням дарует и обитель, и название». Во всех трех случаях имеет место зазор между обыденной реальностью и трансцендентным нематериальным измерением, но этот зазор постепенно уменьшается: безумец просто ошибочно принимает реальный объект за нечто иное, не видя то, чем он является на самом деле (вместо куста ему видится грозный медведь), влюбленный настаивает на реальности объекта любви, который не заменяется чем-то другим, но «пресуществляется» до явления возвышенного уровня (обыкновенные черты лица любимой воспринимаются как есть, но они, как таковые, возвышаются – я вижу в них, как они есть, красоту). В случае поэта трансцендентность сводится до нуля, т. е. эмпирическая реальность «пресуществляется», но не в выражение/материализацию некой высшей реальности, а в материализацию ничто. Безумец непосредственным образом видит Бога, он принимает человека за Бога (или дьявола), влюбленный видит Бога (божественную красоту) в человеке, но поэт видит лишь человека, стоящего на фоне Ничто[85].
Возможно, мы можем использовать эту шекспировскую триаду безумца, влюбленного и поэта, чтобы предложить классификацию событий, основанную на лаканианской триаде Воображаемого, Символического и Реального: безумец живет в воображаемом измерении, путая реальность и вымысел; влюбленный отождествляет возлюбленного с Абсолютом в символическом замыкании означающего и означаемого, которое, тем не менее, сохраняет зазор, навеки отделяющий их друг от друга (влюбленный прекрасно знает, что в действительности его/ее возлюбленный – обычный человек, со всеми своими слабостями и недостатками); поэт вызывает феномены, заставляя их возникать на фоне пустоты Реального.
Для Лакана, Воображаемое, Символическое и Реальное являются тремя основными измерениями, в которых живет человек. Измерение воображаемого состоит из нашего непосредственно прожитого опыта реальности, но также и из наших сновидений и кошмаров – это сфера явлений, того, как нам являются вещи. Символическое измерение – то, что Лакан называет «большим Другим», т. е. невидимый порядок, структурирующий наше восприятие реальности, сложная сеть правил и смыслов, которые делают то, что мы видим, таким, каким мы его видим (и то, что мы не видим, таким, каким мы его не видим). Реальное же – не просто внешняя реальность, но, как утверждал Лакан, «невозможное»: нечто, что не может быть непосредственно воспринято или символизировано – как, например, травматическое столкновение с крайне жестоким насилием, дестабилизующее всю нашу вселенную смысла. Как таковое, Реальное можно различить только в его следах, последствиях или отголосках.