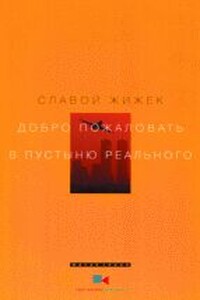Событие. Философское путешествие по концепту | страница 55
Именно из-за этой временно́й сложности, согласно Гегелю, все становится событийным: вещь является результатом процесса (события) собственного становления, и эта процессуальность десубстанцирует ее. Сам дух, таким образом, радикально десубстанцирован: он – не положительная сила, противопоставленная природе, не некая иная субстанция, постепенно открывающаяся и просвечивающая сквозь инертное природное вещество. Он не что иное, как этот процесс самовысвобождения. Гегель открытым текстом отрекается от понятия духа как некоего положительного агента, лежащего в основе процесса:
О духе обыкновенно говорят как о субъекте, как делающем что-то, и помимо своего действия, этого движения и процесса, он еще и нечто особое, его деятельность более или менее случайна; сама природа духа – эта абсолютная живость быть этим процессом, исходить из природности по направлению к непосредственности, чтобы снять, покинуть свою природность, прийти к себе самому и освободить себя. Только придя к себе, он есть он сам как произведенный самим собой, и его действительность есть только то, что сделало себя тем, что оно есть[79].
Материалистическая инверсия Гегеля в трудах Людвига Фейербаха и молодого Маркса отвергает этот самоотносящийся круг, отмахиваясь от него как от идеалистической мистификации: для Фейербаха и Маркса человек является «Gattungswesen» (родовой сущностью), утверждающей свою жизнь, реализуя свои «сущностные силы». Гегельянское событие, таким образом, обращается вспять, и мы возвращаемся к аристотелевской онтологии субстанций, наделенных сущностными свойствами.