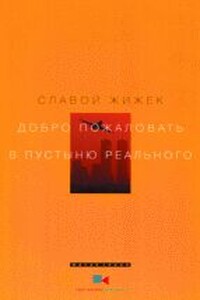Событие. Философское путешествие по концепту | страница 34
Чтобы прояснить это важное утверждение, следует взглянуть на ключевой момент буддистского пути – возвратную перемену от объекта к самому мыслящему: сначала мы выделяем то, что нас беспокоит, причину нашего страдания; затем мы меняем – не объект, но себя, то, как мы относимся к причине (тому, что кажется нам причиной) нашего страдания: «Что было исключено, так это всего лишь ложное понимание своей истинной сути. То, что всегда было иллюзорным, таковым и осознается. Ничего не меняется, кроме перспективы наблюдателя»[50]. Эта перемена причиняет огромную боль, она является не просто освобождением, шагом к кровосмесительному блаженству фрейдистского «океанического чувства», но также жестоким опытом потери почвы под ногами, лишения самой знакомой частицы своего бытия. Поэтому путь к буддистскому просветлению начинается с сосредоточивания на самом простом чувстве «оскорбленной невинности», беспричинного страдания от несправедливости (любимой теме нарциссистских мазохистских мыслей): «Как она могла так со мной поступить? Я не заслужил такого обращения»[51]. Следующим шагом становится переход к самому Эго, к субъекту этих болезненных эмоций, и обнажение его ускользающего, малозначительного статуса – агрессию по отношению к объекту-причине страдания следует направить на Я. Мы не восстанавливаем поврежденное, мы постигаем иллюзорную природу повреждений подлежащего восстановлению.
Но здесь мы наталкиваемся на основную неясность в структуре буддизма: является ли Нирвана, цель буддистской медитации, лишь переменой в отношении субъекта к реальности? Или же целью является фундаментальная перемена самой реальности, так что все живые существа избавляются от своего страдания и все страдание исчезает? Другими словами, не оказывается ли стремление достигнуть Нирваны между двух диаметрально противоположных крайностей – минималистской и максималистской? С одной стороны, реальность остается такой, какой она была, и ничего в ней не меняется – она просто воспринимается как то, что есть, лишь несущественным течением явлений, не имеющих влияние на пустоту в центре нашего бытия. С другой стороны, цель стои́т изменить саму реальность так, чтобы в ней больше не было страдания, чтобы все живые существа достигли Нирваны.
Эта ключевая проблема встречается в разных вариантах и формах: (1) когда мы достигаем просветления и освобождаемся, следует ли нам оставаться в этом состоянии или же, из любви к страдающему человечеству, нам следует вернуться и помочь другим освободиться от страдания? (2) Возможно ли преодолеть пробел между просветлением и этическими поступками: «Как от метафизического понимания, что Я не существует, перейти к этике сострадания и любящей доброте к другим, у которых также нет Я?»