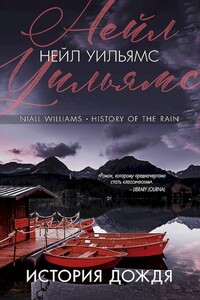Открытый город | страница 53
НВШ стала поворотным пунктом: новый распорядок дня, лишения, дружеские отношения, завязываемые и разрываемые на школьном дворе, а главным образом – нескончаемые учебные занятия, где ты занимал некую ступень в иерархии. Все мы были еще мальчишки, но некоторые мальчишки уже были мужчинами; они обладали врожденным авторитетом, атлетическим сложением или острым умом, или происходили из богатых семей. Чтобы выделяться, какого-то одного качества было недостаточно, но выяснилось, что не все мы равны между собой. Это была диковинная новая жизнь.
Когда я учился на третьем курсе, в феврале у отца обнаружили туберкулез, а в апреле он умер. Наши родственники, особенно с отцовской стороны, истерили, чересчур часто наведывались к нам, чересчур рьяно предлагали помощь и изливали скорбь, но моя мать и я противопоставляли им свой стоицизм. Должно быть, все недоумевали по нашему поводу. Но они не знали, что это стоицизм врозь: мы с матерью почти не разговаривали между собой, и наши глаза были полны темных комнат. Я лишь единожды прервал это молчание. Сказал матери, что хочу увидеть отца, но только не тело в морге. Молил вернуть его мне и вернуть к жизни – изображал простодушие, с которым в свои четырнадцать уже распрощался. «Джулиус, – сказала она, – что это значит?» Ей это показалось жестоким – мое неприкрытое притворство, от него ей было больно вдвойне.
Имя Джулиус связывало меня с другими краями; оно, как и мой паспорт и цвет кожи, подпитывало во мне ощущение, что в Нигерии я отличаюсь от других, стою наособицу. У меня было и второе имя – Олатубосун, традиционное для йоруба, – но я им никогда не представлялся. Это имя слегка удивляло меня всякий раз, когда я видел его в своем паспорте или свидетельстве о рождении, – казалось, оно принадлежит кому-то другому, но передано мне на длительное хранение. Итак, тот факт, что в обыденной жизни я был Джулиусом, упрочивал во мне мысль, что я не вполне нигериец. Не знаю, на что надеялся мой отец, называя сына в честь жены; она вряд ли одобрила его идею, поскольку не одобряла ничего, что делается в приливе сентиментальности. Должно быть, ее собственное имя тоже позаимствовали у кого-нибудь из ее рода: возможно, у бабки, или у какой-нибудь дальней родственницы, у тетушки, некой забытой Юлианны, неведомой Юлии или Юлиетты. В двадцать с небольшим лет она вырвалась из Германии и сбежала в Штаты: Юлианна Мюллер стала Джулиэнн Миллер.
К тому времени, к той весне, когда умер мой отец, в ее ослепительно белокурых волосах уже появилась проседь. Она стала носить косынку, обычно слегка сдвигая ее на затылок, чтобы обнажить блестящий лоб и немножко волосы, – на дюйм, не больше. В день, когда она решила взять меня с собой в свои воспоминания, ее голова была повязана косынкой. В тот день в доме не было никого из толпы наших добровольных помощниц – ни тетушек, ни подруг, готовивших нам еду и делавших уборку. Мы оказались в гостиной вместе – она и я. Я читал книгу, а она вошла, уселась и заговорила – отрешенно, но неспешно – о Германии. Помню, в ее голосе звучали интонации, указывающие на то, что это уже продолжение рассказа, – как будто когда-то нас прервали, и сейчас она лишь подхватила оброненную нить. Когда она произнесла «Юлианна» и «Юлия», не делая уступок английской фонетике, то внезапно показалась мне еще более чужой. В тот миг я почувствовал, что гнев улетучивается из моего организма, и тогда я увидел эту женщину с седеющими волосами и серо-голубыми глазами, с голосом, звучащим издали: поскольку этот голос не мог говорить о смерти, только что разбившей нам сердца, он принялся описывать давнишние события.