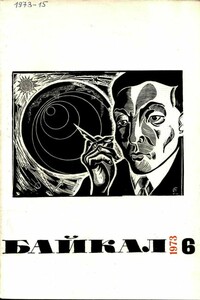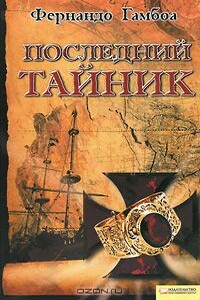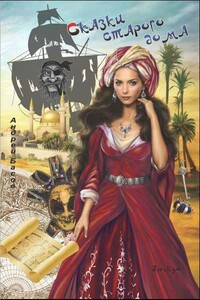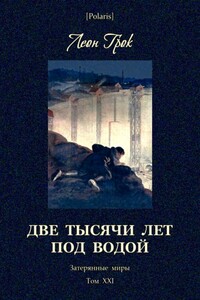Повести о чекистах | страница 66
К событиям революционным, что прокатились по Прихоперью продразверсткой, организацией коммун, террором против «совдеповцев», у Серафима было особое отношение. После смерти сынов, через год жены, а затем еще через год отца Ивана Панкратовича последний из лесников Туркиных ударился в богоискательство, одну заповедь Христову исповедуя — «Не убий!». И ружье свое в мешок запрятал и в подпол сунул. «Природа, она человека добру учит, — говорил он внуку, с которым полюбил гулять и разговаривать. — Вон, смотри, воробей — бойкая, вороватая птаха. А ты примечай: кинул я ему семечек, а он упорхнул. Думаешь, испугался? Нет, это он за другими воробушками полетел. Сейчас явятся. Артельное племя».
Что красных, что зеленых, что белых — всех привечал на своем хуторе Серафим. С каждым, кто ни забредет, хлебом-солью делился. О политике слушать не любил:
— Ты мне не толкуй, винтовку, шашку носишь, значит, не правое твое дело. Ты, как Христос, иди к людям без оружия, словом убеждай.
— Да ты, отец, никак толстовец, непротивление злу насилием проповедуешь? — сказал ему однажды комиссар, что попросился переночевать с продотрядовцами.
— Льва Николаевича шибко почитаю, даром что его от церкви отлучили, — с достоинством ответил Серафим.
Но проповедь проповедью, а жизнь есть жизнь. Однажды толстовец Серафим круто отступил от своей миротворской политики.
Та зима была лютая. Будто по расписанию отстучала никольскими, рождественскими и крещенскими морозами, снегу навалила горы. И вот, в начале марта это было, постучался к нему как-то ночью человек. Передал записку от князя Разумовского, от самого Николая Павловича: «Милый сердцу моему Серафим! Посылаю к тебе людей. Приюти, спрячь где-либо от глаз чужих. Заеду сам-к тебе вскорости. А услуги твоей не забуду». И хорошо знакомая подпись: «Разумовский».
От присутствия посторонних тесно стало в пятистенной рубленной из вековых деревьев избе лесника. Прислал к нему князь семерых, вооруженных, хорошо хоть пеших, а то где сена напасти, своя бы скотина средь зимы без корма осталась. По разговору, когда вечеряли (самогонку гости пили свою, а хлеб и сало хозяйские), понял Серафим, что народец этот лихой, как будто из отряда самого Попова, а князь вроде бы и сам по себе, и с их атаманом связан каким-то общим там интересом. Толком ему про князя никто рассказать и не смог. А хотелось Серафиму послушать про старого хозяина, которого он вспоминал до сих пор тепло, как покровителя всей их лесной династии. Немощен, поди, стал, а может, и убог — по лесам ведь прячется, куску хлеба рад. Жаль, что не приехал вместе с этими. Чего у него с ними только общего-то? Встретил бы его сегодня Туркин не хуже, чем раньше, когда зависим еще от князя был. Эти, сразу видно, разбойное племя, а князь — да разве ж им чета, всем наукам обучен. Последний раз виделись, как войне начаться, осенью в четырнадцатом. В военной форме штабс-капитан Разумовский держался молодцом, несмотря на годы. В одном из номеров журнала «Нива» среди портретов героев, награжденных Георгиевским оружием, видел его Серафим уже подполковником. «Далеко пойдет наш-то, — подумалось, — до генерала, не меньше». А тут и революция…