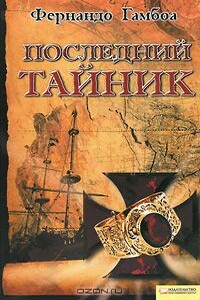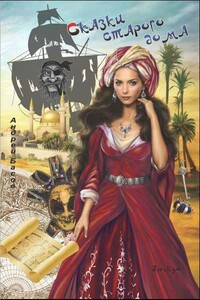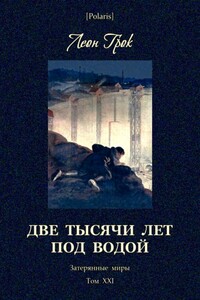Повести о чекистах | страница 64
Всю-то ноченьку не спалось старой женщине. Ведь зять у нее в милиционерах. Редкую ночь дома ночует. Все разбойников вылавливает. Ей уж ее одногодок Гаврила Тарасович, мудрый старик, так прошамкал своим беззубым ртом: не сносить-де Федору, зятю ее, головы; быть, мол, дочке ее, Танюхе, вдовой во цвете лет. Смекнула Агафья из услышанного нынче разговора (жизнь-то на своем веку повидала и с изнанки, и с лицевой стороны), что разбойное дело затевается. А того, кого Платоном назвали, тоже признала, по голосу его хрипатому определила. И брательника его, Яшку-чоконутого, тоже срисовала — известные в Загорщине хулиганы — оторви да брось! Достойные отпрыски отца своего, сквалыги, Химичева Мокея-целовальника. За свои почти тридцать лет инструмента доброго в руках не держали, ничему не научились еще, а пакость какую сотворить — человека безответного до смерти напугать, парня в их околотке чужого покалечить, девку честную испортить — на это они мастера!
Нет, не будет говорить Федору о нынешнем, решила Агафья. Как пить дать, встрянет зятек-то. Он таковский! И откуда в нем чего взялось? Когда Танюшка привела его в дом, в первый-то раз, до чего же робким он Агафье показался. Головой под притолоку, на тело мослястый, плечи саженные, руки тяжелые, работой слесарной разбитые — с десяти годков в депо паровозном мозоли натирал, стоит с ноги на ногу переминается, слова не найдет, как ответить, руки куда деть. И после того, как поженились, хорошим человеком оказался — с ней, тещей, уважительный, к жене всегда приветливый, по хозяйству охочий. И деньгу зашибить, а потом попридержать до нужного момента тоже вроде бы умеет. Непьющий попался. Ну чем не мужик! Да тут, в эту самую революцию, пристал он до «большаков». То слово не знал откуда взять, чтобы ей, старухе темной, ответить, коль спросит чего, а то на собраниях — возьми его! — стал беспременно говорить. Откуда чего взялось-то? Суждения всякие. Послали его в милицию — пошел. Наган на ремень нацепил. Ну что ты, Федот, да не тот!
Профессия лесника потомственная среди Туркиных. И его дед Панкрат, и отец Иван были лесниками. Служили князьям Разумовским. Не за страх служили, за совесть. Особенно Иван: попробуй кто из окрестных крестьян палку в лесу срубить, одним ему известным способом дознается и «иди-ка, милый, сюда!». Моли не моли его — бесполезно, сердце деревянное у него, что ли, было.
За такую службу верную жаловали баре Туркиных. По наезде в родные места из далекого Петербурга непременно посещали дом лесников. Не брезговали и за стол сесть. Правда и то, что нескудно жили Туркины. Еда подавалась хоть и простая, да для городского жителя заманчивая. На скобленной ножом столешнице громоздились в глиняных чашках соленья, ягоды, орехи, грибы — все дары леса; дичь, на вертеле жаренная, в деревянной баклажке мед с сотами, хлеб подовый из печи вынимался, водка пшеничная, на травах настоянная. Помнит Серафим, тогда еще парень, как часто заскакивал к ним с охоты молодой блестящий поручик Николай Павлович Разумовский. Веселый, с красавицей невестой, с двумя-тремя товарищами. Отцу руку жал, деда Панкрата в щеку чмокал, его, Серафима, бил с размаху кулаком в грудь: уж больно литая была она у него, мышцами, как обручами, обвитая. «Люблю сердечно Туркиных», — говорил молодой наследник. За это вот слово барское, ласковое готов был псом преданным в глотку вцепиться любому врагу князей Разумовских Иван Панкратович. Когда умер дед, а сына Серафима на службу царскую призвали, вдвоем с женой лесные княжеские угодья каждую ночь обходил. Заметит порубщиков, жену с двуствольной «тулкой» в кустах оставляет для подстраховки: «Смотри, Нюрка, случь чего — бей прямо по башкам!» А сам без малейшего страха пер на любую ватагу, хоть десять мужиков будь, да у каждого по топору. А все-таки однажды едва не вышел у него с Разумовским разлад. То ли промотался молодой офицер в Петербурге, то ли на какую-то затею, надуманную им, тысячи понадобились, только продал он на выруб местному купцу десятки десятин строевого леса — рощу березовую, сосновую гриву, вдоль речки Идолги дубняк. Купец был с размахом — нарядил ватагу дровосеков с лошадьми, в неделю вымахали они сосняк, как проплешину в кудрях шелковых выстригли. Принялись было и за рощу «куинджевскую». В ту неделю словно тифом переболел Иван. Не стволы корабельных сосен секли лесорубы, живое сердце лесника рубцевали они своими топорами. Самолично приостановил порубку рощи: «Убью, кто еще хоть одну березу свалит! Ждите! К купцу вашему поеду». Принарядился и в городишко. Купец его принял. Долго толковали о чем-то, водя пальцами по карте лесных угодий. Вернулся, передал распоряжение хозяина, что работы еще на неделю откладываются. В тот же вечер на поезде укатил к Разумовскому. Доказал своему барину, что нельзя рубить молодой, здоровый массив, мол, нарушит это лесной режим, мол, убытки будут велики. Предложил произвести порубку выборочно и указал на карте места: «И купец согласен».