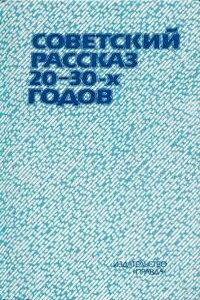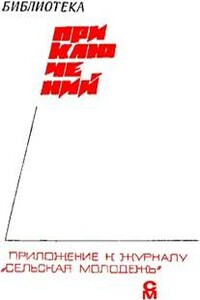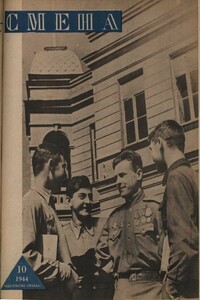Записки спутника | страница 58
Пусть мне простят короткое лирическое отступление.
Муза дальних странствий, неугомонная, неутомимая муза! В ранней юности трехмачтовый парусный корабль, учебное судно школы мореплавания, было пределом наших мечтаний. Так смотрели аджарские комсомольцы на трехмачтовый парусник «Товарищ» в батумском порту. Так девушка в голубой майке провожает взглядом серебряную птицу Юнкерса удаляющуюся на юг. В юности мы мечтали о парусных кораблях капитана Фракасса и Фомы-Ягненка. В зрелые годы я видел Сен-Мало, орлиное гнездо Фомы. Под стенами и старинными бастионами гуляли джентльмены в разноцветных купальных халатах и прятались от солнца золотозубые англичанки. Я видел на Гвадалквивире каравеллу Колумба и увидел «Бремен», быстрейший в мире трансатлантический пароход, и понял, что время каравелл и бригов безвозвратно прошло. И понял, что хорошо жить в век «Бремена» и самолета Дорнье, поднимающего в воздух сто шестьдесят два человека. Все же «медленный шаг каравана» в горах Афганистана имел для нас неизъяснимую прелесть — может быть, потому, что это был самый древний способ передвижения человечества. Романтические чувства молодости вернулись и не оставляли нас в этом тридцатидневном путешествии. Медленный шаг каравана позволял нам видеть и запоминать все вокруг. Мы лили кумыс и овечье молоко под черными шатрами «хана-и-сиар» у кочевников. Мы заглядывали в ущелья, где в идиллической, тишине меланхолически журчали изумрудные горные ручьи. Мы подкрадывались к грифам с голой, точно ободранной шеей и ошейником из торчащих перьев. Мы давили сонных змей и пугали скорпионов и фаланг в размытых дождями, разрушенных дозорных башнях эпохи Великого Могола. Азия повернула к нам свой древний, неподвижный и жесткий лик. Мы спускались в долины. Соединенные цепями вьючные лошади, упираясь копытами в землю, съезжали по крутой горной тропе. Вьюки сползали им на шею. От исступленного крика розовая пена выступала на губах каракашей. Спешенные всадники шли, держась за конские хвосты, стараясь не глядеть в пропасть. Это был единственный горный перевал на пути в Герат. Кажется, афганцы оставили его в таком девственно-диком виде со специальной, устрашающей целью. Десять лет назад Афганистан показывал себя без прикрас, вплотную, лицом к лицу. Иногда это лицо благодушно улыбалось. Средневековая Азия встречала странника традиционным гостеприимством, радовала его тенью палаток на привале, треском горящего саксаула, дразнящим запахом плова, синим дымком чилима, заменяющего здесь кальян. До Ардеванского перевала — прохладных ущелий, горных изумрудных потоков — было тридцать пять километров безводной равнины, изредка перерезанной оросительными каналами, сожженной безжалостным солнцем. Это был утомительный и долгий переход. Синий горный хребет Парапамиз, тройная линия горных гребней лежала на горизонте. Четыре, пять, шесть часов мы шли против солнца к проклятому горному хребту, но он был недосягаем, он как бы уходил от нас, меняя цвета и оттенки. На закате солнца он стал иссиня-черным и наконец пропал в темноте.