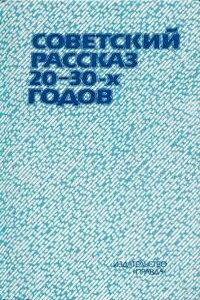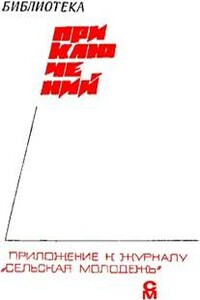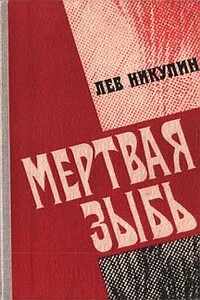Записки спутника | страница 41
Возвращаясь к «взятию Зимнего дворца», нужно добавить, что исторический крейсер «Аврора» прибыл в ту ночь из Кронштадта и стал на якорь у Николаевского моста. Все благоприятствовало зрелищу за исключением погоды. Только энергия штаба могла заставить отважных актрис появиться на самой большой в мире сцене в открытых бальных платьях. Петроградская осень приготовила самую отвратительную погоду. Снег с дождем в полчаса покончили с выкрашенным охрой декорациями. Исполнителей-актеров, статистов, моряков, красноармейцев — оказалось вдвое больше, чем зрителей. Однако, несмотря на погоду, Зимний дворец был взят с редким энтузиазмом. Погас свет на площади, осветились окна дворца и в освещенных окнах как на транспаранте появились силуэты дерущихся людей. «Аврора» выстрелила положенное число раз, затрещали пулеметы, вспыхнула алая звезда на крыше дворца, и вокруг звезды засияли радужным нимбом прожектора. Затем площадь сразу опустела. Пронизывающий ветер и снег кружили по Невскому. Была фантасмагорическая петроградская ночь. «…Все окинулось каким-то туманом, тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался в своей арке, дом стоял крышей вниз и алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Действительно, все было как в «Невском проспекте» (за исключением карет, лошадей и, конечно, алебарды), и Ю. Анненков, автор декораций ко «Взятию Зимнего дворца», шел рядом и мечтал о том, где можно воспроизвести рисунок замечательного спектакля, в котором участвующих было в ту ночь больше, чем зрителей. Рисунок (все, что осталось от той ночи) был воспроизведен в единственном в ту пору литературно-художественном журнале «Красный милиционер». Да, журнал именно так и назывался, в нем не было ничего имеющего прямого отношения к милиции и городской охране. Он печатался на превосходной бумаге, в нем печатались Шкловский и некоторые формалисты, его иллюстрировал Анненков. Неожиданные роскошества исходили от лирической и широкой натуры одного товарища из отдела управления Петросовета. Бывший студент из Тулузы, читатель и почитатель Ремизова, Сологуба и Белого, он имел большое тяготение к свободным художествам и проявлял это во всех подчиненных ему инстанциях. Что же, это было не плохо, но надо иметь в виду, что в то самое время, когда, скажем, милиционерши обучались пластике, на Невском лежали неубранные павшие лошади. Это именно он затеял постройку крематория в Петрограде и был ярым пропагандистом «огненного погребения», и радовал глаз посетителей его учреждения плакатами: «каждый может быть сожжен»… Чудак и фантазер проявлял неиссякаемую энергию: сегодня открывал музей петроградской преступности, завтра — школу ритма при клубе ГОРОХР (городская охрана) или присутствовал при «показательном трупосожигании». Но этот задор молодости был простителен: революционная власть родилась три года назад и из детства переходила в отрочество. Детищем этого неутомимого товарища был «Отель Петросовета номер первый», именно о т е л ь, а не гостиница или общежитие. Днем дом вымирал, почти все его обитатели приходили только на ночлег. В пятом этаже жил одержимый поэт Василий Князев, в первом — тишайший Ремизов. В третьем — тихая, задумчивая девушка, следователь уголовного розыска. По всем этажам странствовали полуночники в поисках споров, чаю с клюквой и в лучшем случае картофеля. Неожиданно в одну январскую ночь пришел Скориков, комиссар красногвардейского отряда, сторож советской границы у Брянска в 1918 году. Он постарел и похудел, но длинная кавалерийская шинель и красноармейский шлем изменили его облик. Теперь это был прирожденный военный, красный кавалерист, командир полка, сжившийся со своим снаряжением, ремнями, казачьей дареной шашкой; ничего не осталось от глубоко штатского машиниста добровольного флота. Он приехал с южного фронта повидать жену, питерскую студентку. Мы слушали его рассказы. Раньше мы внутренно ощущали связь с Красной армией, добивающей Врангеля, теснящей поляков, теперь Скориков был живой связью. Он рассказывал о летних и весенних месяцах 1920 года, о ночном кавалерийском бое в вишневом саду, осыпанном розовым цветом под серебряным полнолунием. В эту тихую украинскую ночь в смертельной ненависти рубились красные и белые всадники и грызлись их кони. Он сознался, что хотел написать рассказ об этом ночном бое, об ударах шашек, о револьверных выстрелах, распугавших соловьев. «Почему ж не написал?» — «Не вышло — порвал». Тогда некогда было звать в литературу, учить и поучать. Скориков простился, и трудно сказать, где теперь этот человек, — в кубанских колхозах или в геологических разведках у Ангары; или он не пережил еще одной весенней ночи, лунной ночи у Мелитополя? Приходили люди, пили с нами кирпичный чай, ели печеный картофель и уходили навсегда, и кто знает, где их могилы, — в черноземе Украины, в известковом грунте Черноморья или под кронштадтским льдом. Ветер трепал на стенах домов трагические заголовки «Правды» о выступлении поляков. Мобилизованные товарищи выслушали краткую речь с балкона районного комитета, взяли по сотне папирос «Зефир» в Петрокоммуне и ушли на вокзал. Люди в ушастых шапках смотрели им вслед — не было деления на фронтовиков и тыловых. Нельзя было угадать, где будет фронт завтра; и в начале марта он внезапно оказался под Петроградом, в Ораниенбауме и Сестрорецке.