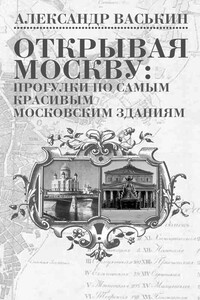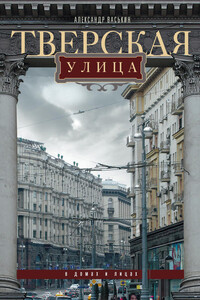Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей | страница 35
Зал Гогена в особняке Щукина
Сергей Щукин не прятал свою коллекцию от народа. Он решил приобщать соотечественников к новому западному искусству, несмотря на обструкцию, устраиваемую «художественной общественностью». Сергею Ивановичу непросто было решиться на этот шаг. Он навсегда сохранил в памяти печальный случай, когда несколькими годами ранее один из его гостей в знак протеста против импрессионистских форм искусства перечеркнул карандашом картину Моне. Тем не менее весной 1909 года двери дома № 8 в Большом Знаменском переулке впервые распахнулись для посетителей. Каждое воскресенье в 10 часов утра Сергей Иванович встречал посетителей в вестибюле своего особняка. «Странное чувство. Смешанное чувство. Взоры с радостью останавливаются на стенах, и сердце содрогалось, как будто здесь торжествовала правда… Меня под конец трясла лихорадка», – писала одна из пришедших на выставку посетительниц.
Кузьма Петров-Водкин, участник «щукинских воскресений», писал: «Сергей Иванович сам показывал посетителям свою галерею. Живой, весь один трепет, заикающийся, он растолковывал свои коллекции. Говорил, что идея красоты изжита, кончила свой век, на смену идет тип, экспрессия живописной вещи, что Гоген заканчивает эпоху идеи о прекрасном, а Пикассо открывает оголенную структуру предмета».
Несмотря на то что Щукин не собирал русских художников, тем не менее в своем московском доме в отсутствие французов он старался общаться с теми русскими, кому художественный стиль парижского Монмартра был близок. Это были футуристы Владимир Маяковский и Давид Бурлюк, художники-авангардисты Аристарх Лентулов, Казимир Малевич, Владимир Татлин, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Илья Машков, Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин. Один из них писал, что вся художественная молодежь Москвы была, как эпидемией, охвачена влиянием позднейшей французской живописи. Зараза шла со Знаменского переулка, где «седой, влюбленный в живопись юноша С.И. Щукин собирает диковины из боевой лаборатории Европы и страстно разъясняет бесконечным посетителям своих любимцев. – И что бы это затеял Сергей Иванович? – недоумевали его приятели в складах и лавках. – У него смекалка коммерческая, он зря не начнет, уж он покажет Рябушинским да Морозовым!»
Упоминание здесь фамилий других известных богатых семейств пришлось довольно кстати. Им ведь тоже было не чуждо прекрасное. Такое тесное общение купечества с представителями творческой интеллигенции Москвы диктовалось существовавшей тогда модой на меценатство. Каждый из московских богатеев рассчитывал на определенную поддержку в среде художников, скульпторов, архитекторов, писателей. Но что интересно – вкусы у них были разными, и каждый стремился перещеголять своего конкурента. Например, другой известный меценат – Савва Мамонтов – тоже любил живопись, скульптуру. Он пробовал силы в ваянии, сотворив бюст одного из друзей-художников, организовал и активно участвовал в деятельности абрамцевского художественного кружка. То есть в художественном творчестве Мамонтов пошел дальше Щукина, которого хватило разве что на собственноручное замазывание «нехороших» излишеств на фигурах обнаженных юношей с картин Матисса.