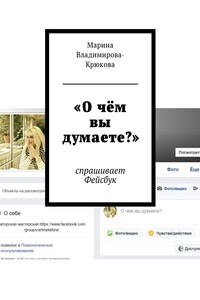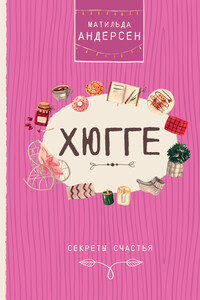Что можно сделать, когда сделать уже ничего нельзя | страница 49
Некоторых знакомых и приятелей мы навсегда утратили. Теперь я понимаю, что у людей поступок моего брата вызвал страх и ужас и, как следствие, они отшатнулись от семьи, где такой немыслимый поступок мог произойти. Другое, может, более вероятное объяснение – это то, что люди не знали, что сказать. Это именно та ситуация, когда говорят: «У меня нет слов», «Я онемела», «Я не знаю, что сказать».
После театральной трагедии опускается занавес, и зрители расходятся по домам, обсуждая впечатления от увиденного. Когда погибает близкий человек, то в известном смысле не существует «после»: трагедия остается и поселяется в жизненном и духовном пространстве оставшихся в живых. Она распоряжается их жизнями, сжимая сердца от горя, переворачивая былые представления, привязанности – словом, весь существовавший доселе миропорядок. Смеются вместе – оплакивают в одиночестве. Но люди так устроены, что они могут сопротивляться напору обстоятельств.
Вначале я была только реципиентом помощи. Мне оказывали разнообразную поддержку незнакомые люди. В то время я была губкой, впитывавшей любую информацию, любое знание по этому поводу: так мне было важно понять, что произошло с нами и почему. Для меня было открытием – обнаружить в далекой Калифорнии группу Compassionate Friends (Сочувствующие друзья). Американская нон-профитная организация существует в помощь всем скорбящим, потерявшим близких. У нее есть несколько отделений. По моей просьбе из калифорнийского отделения этого общества мне прислали по почте специальный выпуск их газеты, посвященный теме самоубийства. Помню, этот выпуск произвел на меня столь глубокое впечатление, что я перевела несколько отрывков из писем родителей, потерявших детей, чтобы мои родители могли ознакомиться с ними. Кое-что из переведенного я привела выше. Вот слова отца о погибшем сыне из того же специального выпуска газеты 2001 г. «Самоубийство: как мы говорим о нем?»
«Жизнь может быть хороша вновь» (Дон Хаккэт, TCF/Hingham Massachusetts): «Вот уже почти 16 лет как исчез его голос. Приблизительно столько же, сколько он вообще был слышен. Никогда я не предвидел, что будет жизнь без звуков, означающих его присутствие. Научиться пережить эту тишину казалось невозможной задачей, такой невероятно тяжелой, что я не мог найти никакой надежды или ожидания, что вообще буду жить.
Он был нашим сыном, нашим единственным ребенком. Темп его роста отмерял ритм и биение наших жизней. Его уход лишил наше существование какой-либо ценности, которую я мог бы немедленно постичь. В конечном счете я пришел к осознанию, что я был неправ.