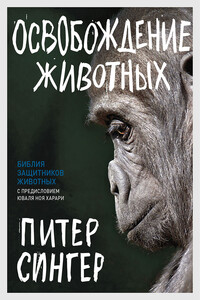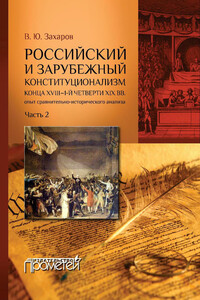Высшая духовная школа. Проблемы и реформы. Вторая половина XIX в. | страница 108
Единственный представитель черного духовенства, за исключением председателя, вошедший в Комитет, – архимандрит, вскоре епископ, Павел (Лебедев), – магистр столичной академии. Он считался сочувствующим новым веяниям, хотя, видимо, с разумной сдержанностью, и не во всем. По окончании первого этапа составления проекта был хиротонисан в викарного епископа[440].
Из пяти мирян, вошедших в состав Комитета, двое – профессора Е.И. Ловягин и И.А. Чистович – представляли столичную академию, и уже этим объяснялось включение их в состав Комитета. Были у них и «дополнительные достоинства»: знаток греческого языка Е.И. Ловягин пользовался особой симпатией «классициста» графа Д.А. Толстого, И.А. Чистович был членом Учебного комитета, при этом имел родственные связи с могущественным протопресвитером В.Б. Бажановым.
Включение в Комитет представителей светской высшей школы – А.Д. Галахова и И.Е. Андреевского – многие объясняли желанием обер-прокурора приблизить академии к университетам. Но профессора Галахов и Андреевский могли дать дельный совет по проведению реформы высшей школы, ибо активно участвовали в разработке университетского Устава 1863 г. и пожинали плоды его введения: первый как член Ученого комитета при Министерстве народного просвещения, второй – как профессор Санкт-Петербургского университета[441].
Активный деятель духовно-учебных реформ 1860-х гг. Н.А. Сергиевский при обсуждении проблем высшего духовного образования был особенно полезен: имея личный опыт учебы и преподавания в МДА, он дополнил его изучением западных богословских школ.
Комитет открыл заседания 23 января 1868 г. и продолжал их до Пасхи. В дневнике ректора МДА протоиерея А.В. Горского сохранилось пожелание императора к проектируемой реформе духовных академий, пересказанное графом Д.А. Толстым: «Государю неугодно сделать из академии факультет университетский, но он желает сохранить их самостоятельность». Причина была приведена отнюдь не учебная, но нравственная: за университетами нельзя иметь наблюдение с нравственной точки зрения, а в академиях должно быть обращено особое внимание на эту сторону. Обер-прокурор добавил к словам императора свое понимание предполагаемого преобразования: «Не будучи факультетом университета, духовная академия не должна захватывать предметов университетского образования, должна быть собственно богословским [курсив мой – С.Н.] высшим училищем, разрабатывать науки богословские… у нас нет денег, чтобы в академиях везде открывать кафедры по наукам не прямо богословским, исключая, впрочем, философию»